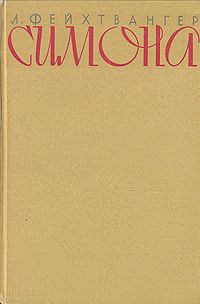И все же безудержность горя Мартина служила ей утешением. Он кричал, выл, метался как безумный. Он вновь и вновь перечитывал рукопись Бертольда, отдал ее переписать и потом, как безумец, положил эту рукопись вместе с грамотой Мольтке в гроб Бертольду. В знак траура сидел, по старинному еврейскому обычаю, на полу, надорвав одежды. Собрал девять набожных евреев и читал с ними поминальную молитву.
После семидневного траура по сыну он стал другим человеком. Но именно в этом новом Мартине Лизелотта узнала того Мартина, которого всегда чувствовала в нем. Она открывала в нем качества, нравившиеся ей в шурине Жаке Лавенделе, изворотливость в борьбе за то, что он считал правильным, пренебрежение к внешним формам, настойчивую гибкость, если вопрос шел об интересах нужного дела. Мартин и Лизелотта, без лишних слов, стали друг другу ближе, роднее.
Никогда не говорили они о Бертольде.
Зато Мартин теперь часто делился с Лизелоттой всякими деловыми заботами. Не прекословя, принимал унижения от Вельса, но с тем большим упорством и умом отстаивал то, что ему казалось важным. Магазин на Гертраудтенштрассе раньше чем через год отойдет в «Немецкую мебель», но Мартин работает так, словно забыл об этом. Он принимает к себе еврейских служащих, уволенных по требованию Вельса из магазинов «Немецкая мебель».
В субботу, в день бойкота, он, как всегда, отправился в контору. По дороге разглядывал взбудораженную, любопытную толпу, глазевшую, как проводится бойкот. Он видел плакаты в витринах, слышал хоровую декламацию фашистских ландскнехтов. И только покачивал головой. Бойкот этот, как почти все, что делали нацисты, был пустой комедией. Официальный мотив, будто таким путем правительство хочет заставить замолчать цивилизованный мир, возмущенный погромами, был нелеп. Сами министры вынуждены были признать, что обвинения в истязаниях не устранить новыми избиениями избитых. Истинные причины бойкота заключались не в этом. Четырнадцать лет подряд фашистские главари обещали своим приверженцам, что те смогут безнаказанно убивать евреев, грабить их жилища и магазины, но как только дошло до дела, сами же, под давлением негодующего мира, были вынуждены попридержать свою свору. Поэтому им понадобился такой демонстративный бойкот, они надеются с его помощью хотя бы сколько-нибудь успокоить разочарованных.
Мартин попросил Францке остановить машину на углу, он хотел без помех удостовериться, как обстоит дело с магазином. Придя к власти, нацисты имя Опперманов не забыли. Они поставили перед небольшим магазином на Гертраудтенштрассе больше десятка ландскнехтов во главе с начальником, украшенным двумя звездочками на воротнике. Все витрины были густо заклеены плакатами: «Не покупайте у евреев». Они раздобыли где-то портрет Эммануила Оппермана и для смеха наклеили на него плакат: «Жид, сгинь, пропади!» — так, словно эти слова вылетают у него изо рта. Молодые ландскнехты орали хором: «Евреи — ваша беда», — а в последней витрине Мартин заметил крупную надпись: «Пусть у этого еврея отсохнут руки». Он поглядел на свои розовые волосатые руки. «Надо полагать, они отсохнут еще не скоро», — усмехнулся он про себя.
Он подходит к главному подъезду. Старый швейцар, с суровым лицом, и снежно-белыми усами, стоит на своем месте. Но он не толкает перед Мартином вращающуюся дверь. Ландскнехты повесили ему на шею плакат: «Жид, сгинь, пропади!» Он смотрит на своего патрона смиренно, беспомощно, тая ярость и надежду: здороваясь с ним, Мартин, против обыкновения, снимает шляпу и говорит:
— Добрый день, Лещинский, — но ничего не предпринимает. Теперь он поумнел. Когда он собирается толкнуть дверь, к нему подходит начальник с двумя звездочками.
— Разве вы не знаете, сударь, что сегодня день еврейского бойкота? — говорит он.
— С вашего разрешения, я хозяин этого магазина, — отвечает Мартин. Ландскнехты окружили их, остановились и некоторые зеваки, все молча, с любопытством следят за этой сценой.
— Вот как, — говорит начальник. — Важная птица, значит.
И Мартин под взглядами собравшихся проходит в свой магазин.
Все служащие на месте, но покупателей в магазине ни души. В конторе сидят господин Бригер и господин Гинце. Господин Гинце все-таки повесил портрет Оппермана в военной форме и с Железным крестом первой степени на груди. Внизу Гинце проставил большими четкими буквами: «Пал за отечество 22 июля 1917 года».
— Напрасно вы это сделали, Гинце, — угрюмо говорит Мартин. — Напрасно вы вообще пришли. Вы только себе повредите, а нам ничем не поможете.
— Есть какие-нибудь новости? — поворачивается он к Бригеру.
— Пока все проходит довольно мирно, — говорит Бригер. — По дороге сюда на Бургштрассе я видел такую сцену: перед табачной лавчонкой еврея стоял на посту нацист. Он посмотрел на часы: десяти, то есть часа, когда официально начинался бойкот, еще не было. Парень снял с себя плакат, вошел в магазин, купил пачку сигарет, вышел и снова надел свой плакат. Те, что стоят около нас, с большим интересом осматривали витрины и осведомлялись о ценах. Я убежден, что они клюнут, если, конечно, начальники не предложат им не утруждать себя платой за вещь, которая им приглянулась. Сегодня, по-видимому, их лозунг не будет иметь большого успеха. Пока было целых шесть покупателей, среди них один, несомненно, гой, видимо иностранец, он размахивал у них перед носом паспортом. Пришел он явно из желания досадить им, потому что купил всего-навсего на шестьдесят пфеннигов какой-то запасный штифтик для стула. Была старуха Липпенмайер. Они не хотели ее впустить, но она заявила, что еще мать ее всегда покупала здесь и что ей обязательно сегодня хотелось присмотреть новую кровать для своей горничной. Они срезали ей косу и поставили печать: «Я, бессовестная, покупала у евреев».
— Что было с Лещинским? — спросил Мартин.
— Старик наш очень разошелся, — улыбнулся Бригер. — Он крикнул им, кажется, «бандиты» или что-то в этом роде. «Коричневые» попались добродушные, они не сволокли его в казармы, а только повесили ему на шею плакат.
Время тянулось страшно медленно.
— Вот, господин Опперман, мы наконец и празднуем субботу на Гертраудтенштрассе, — сказал Бригер. — Я всегда вам говорил, что это следует делать.
Потом в контору вошли два ландскнехта. Они предъявили счет за наклейку плакатов. Было наклеено восемнадцать плакатов да один повесили на швейцара. По две марки за плакат, в общей сложности, следовательно, тридцать восемь марок.
— С ума вы сошли? — возмутился Гинце. — Нам платить за то, что вы…
— Тише, Гинце, — остановил его Мартин.
— Таков приказ, — сухо, по-солдатски, отчеканили оба ландскнехта. — Приказ один по всей стране.
Закусив от злости губу, Гинце выписал ордер на кассу на выплату тридцати восьми марок.
— Две марки за плакат. — Бригер покачал головой и свистнул сквозь зубы. — Цены ваши кусаются, господа. Наши декораторы взяли бы не больше тридцати пфеннигов за штуку. Нельзя ли уступить хоть полмарки?
Ландскнехты стояли, тупо глядя в пространство. Получив ордер, крикнули «Хейль Гитлер!» и ушли.
Такие же плакаты были вывешены в этот день в 87.204 помещениях — в приемных еврейских врачей, в конторах еврейских адвокатов, в еврейских магазинах. В Киле одного адвоката, не захотевшего уплатить за плакаты и вздумавшего защищаться, поволокли в полицию и там линчевали. Сорок семь евреев покончили в эту субботу жизнь самоубийством.
Около двух часов дня Лизелотта заехала за Мартином. У входа в магазин к ней подошел начальник отряда и напомнил о бойкоте.
— Я жена владельца магазина, — очень громко сказала Лизелотта. Ландскнехты посмотрели на высокую светловолосую женщину.
— Стыдитесь, — сказал начальник и презрительно сплюнул.
Через десять минут Лизелотта вышла из магазина через главный подъезд под руку с Мартином.
В главную контору на Гертраудтенштрассе пришел Маркус Вольфсон: из «Немецкой мебели» его уволили.
— Ладно, Вольфсон, — сказал Мартин. — Вы можете поступить ко мне.
В тот же день к Мартину явился упаковщик Гинкель, председатель нацистской группы мебельной фирмы Опперман. Крича на Мартина, он потребовал, чтобы Мартин отменил свое распоряжение о принятии господина Вольфсона и еще трех евреев, а вместо них взял бы трех «арийцев».
— Я полагаю, — мягко сказал Мартин, — что вы превышаете свои полномочия, Гинкель. — И Мартин показал Гинкелю газетную вырезку, в которой было сказано, что вмешиваться в управление предприятием имеют право исключительно официальные инстанции, но не руководители отдельных групп нацистов. Упаковщик Гинкель злобно взглянул своими узенькими глазками на своего патрона.
— Во-первых, — сказал он, — когда я в форме, вы обязаны называть меня «господин Гинкель». Во-вторых, постановление, которое вы мне показали, напечатано для заграницы и меня не касается. В-третьих, я доложу о вашем поведении в соответствующие инстанции.