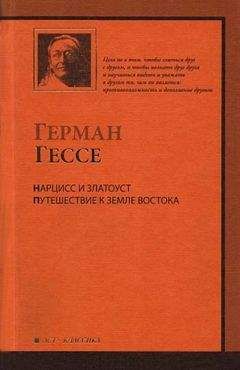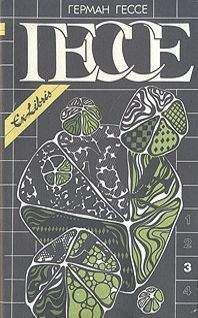Была прохладная поздняя осень, и однажды, когда утром голые деревья стояли все в инее, они въехали в холмистую местность с пустыми красноватыми болотами и странно знакомыми линиями длинных цепей холмов; вот и высокий осинник, и русло ручья, и старый сарай, при виде которого у Гольдмунда радостно заныло сердце; он узнал холмы, по которым прогуливался вер хом когда-то с дочерью рыцаря Лидией, и поле, по которому однажды, изгнанный и глубоко печальный, уходил странствовать сквозь редкий снег. На горизонте поднимался ольшаник и мельница, и бург, со странной болью узнал он окно кабинета, в котором тогда, в сказочное время юности, он слушал рассказы рыцаря о паломничестве и должен был исправлять его латынь. Они проехали во двор, здесь была намечена остановка. Гольдмунд попросил аббата не называть здесь его имени и разрешить есть вместе с конюхом у прислуги. Так и было.
Старого рыцаря уже не было в живых, и Лидии тоже, но кое-кто из охотников и прислуги оставались, а в доме жила и правила вместе с супругом очень красивая, гордая и властная госпожа Юлия. Она все еще была дивно прекрасной, очень красивой и немного злой; ни она, ни прислуга не узнали Гольдмунда.
После еды в вечерних сумерках он осторожно подошел к саду и посмотрел через забор на уже зимние клумбы, вернулся к двери конюшни и взглянул на лошадей.
Они с конюхом спали на соломе; груз воспоминаний лежал у него на груди, и он много раз просыпался. О, какой разбросанной и бесплодной казалась ему его жизнь, богатая чудесными картинами, но разбитая на столько черепков, такая незначительная, такая бедная любовью. Утром при отъезде он робко поднял глаза к окнам в надежде увидеть еще раз Юлию. Так смотрел он недавно во дворе епископского дворца, не покажется ли Агнес. Она не подошла, и Юлия не показалась больше. Вот так всю жизнь, казалось ему: прощаешься, бежишь прочь, тебя забывают, и вот стоишь с пустыми руками и стынущим сердцем. Весь день это преследовало его, он не говорил ни слова, мрачно сидя в седле.
Нарцисс предоставил его самому себе.
Но вот они приблизились к цели, и через несколько дней она была достигнута. Незадолго до того, как стали видны башни и крыши монастыря, они проскакали по каменистому брошенному полю, где он, о, сколько леттому назад, собирал как-то траву зверобоя для патера Ансельма, и цыганка Лизе сделала его мужчиной. И вот они проехали в ворота Мариабронна и слезли с лошадей под итальянским каштаном. Нежно коснулся Гольдмунд ствола и наклонился за одним из лопнувших колючих плодов, которые лежали на земле, коричневые и увядшие.
Первые дни Гольдмунд жил в своем монастыре, в одной из келий для гостей. Потом по его просьбе ему устроили жилье напротив кузницы в одной из хозяйских построек, окружавших большой, как рыночная площадь, двор.
Прошлое захватило его с такой чарующей страстью, что он подчас сам удивлялся этому. Никто его здесь не знал, кроме настоятеля, никто не знал, кто он такой, братья, как и миряне, жили по твердому распорядку и были заняты своим делом, оставив его в покое. Но его знали деревья во дворе, его знали порталы и окна, мельница с водяным колесом, каменные плиты переходов, увядшие розовые кусты в обходной галерее, гнезда аистов на амбаре и трапезной. Из каждого уголка сладостно и трогательно неслось навстречу благоухание его прошлого, первых юношеских лет, с любовью смотрел он на все это опять, слушал все звуки, колокол ко всенощной и воскресный звон к мессе, шум темного мельничного ручья в его узком замшелом ложе, звук сандалий по каменным плитам, вечером звон ключей на связке, когда привратник шел запирать ворота. Рядом с каменными водостоками, по которым сбегала дождевая вода с крыши трапезной для мирян, все еще бурно росли те же невысокие травы, герань и подорожник, а старая яблоня в саду у кузнеца все еще ровно держала свои далеко раскинувшиеся ветви. Но сильнее, чем все остальное, волновал его каждый раз звук маленького школьного колокольчика, когда на перемену сбегали по лестницам и резвились во дворе ученики из монастырской школы. Как юны и бездумны, как прелестны были эти ребячьи лица – неужели и он в самом деле был когда-то так же юн, так же неотесан, так же по-детски прелестен?
Но, кроме хорошо знакомого монастыря, он узнал и почти незнакомое, уже в первые дни это бросилось ему в глаза, становясь все важнее и лишь постепенно увязываясь с хорошо знакомым. Правда, и здесь не прибавилось ничего нового, все стояло на своем месте, как во время его ученичества и сотни лет до того, но он смотрел на это не глазами ученика. Он видел и чувствовал соразмерность зданий, сводов церкви, старую живопись, каменные и деревянные скульптуры на алтарях и порталах, и хотя не было ничего, что не стояло бы на своем месте уже тогда, он только теперь видел красоту этих вещей и дух, создавший их. Он смотрел на каменную Богоматерь в верхней часовне, мальчиком он тоже любил ее и срисовывал, но только теперь он увидел ее прозревшими глазами, видел, что она – чудо, которое он никогда не сможет превзойти самыми лучшими и удачными своими работами. И таких чудесных вещей было множество, и каждая стояла не сама по себе, не случай но, но, происходя от того же самого духа, стояла меж древних стен, колонн и сводов как в своей естественной отчизне. Все, что здесь было построено, изваяно, нарисовано, пережито, продумано и преподано за несколько столетий, было одного рода, одного духа и подходило друг другу, как ветви одного дерева.
Среди этого мира, этого безмолвного мощного единства Гольдмунд чувствовал себя совсем ничтожным и никогда прежде не сознавал себя незначительнее, чем когда видел, как управляет этим огромным, однако спокойно-дружелюбным упорядоченным миром настоятель Иоанн, его друг Нарцисс.
Пусть между ученым, тонкогубым аббатом Иоанном и простодушным скромным настоятелем Даниилом была внешне огромная разница, но каждый из них служил одному и тому же единству, тем же мыслям, тому же порядку, обретая через них свое достоинство, приносил свою личность в жертву. Это делало их похожими точно так же, как монастырское одеяние.
В монастыре Нарцисс казался Гольдмунду невероятно великим, хотя он не относился к нему иначе, как к другу и хозяину. Скоро он едва решался называть его на «ты» и Нарциссом.
– Послушай, настоятель Иоанн, – сказал он как-то ему, – постепенно мне ведь все-таки придется привыкнуть к твоему новому имени. Должен тебе сказать, мне очень нравится у вас. Иногда мне почти хочется исповедоваться во всем и после покаяния просить принять меня в качестве брата-мирянина. Но видишь ли, тогда нашей дружбе пришел бы конец: ты – настоятель, а я – брат-мирянин. Жить же так возле тебя, на твои труды, и ничего не делать самому – этого я дольше не выдержу. Я тоже очень хочу работать и показать тебе на что я способен, чтобы ты увидел, стоило ли освобождать меня от виселицы.
– Я очень рад этому, – ответил,Нарцисс, произнося свои слова точнее и отточеннее, чем когда-либо. Ты можешь в любой момент устраивать себе мастерскую, я тотчас же прикажу кузнецу и плотнику быть в твоем распоряжении. Располагай материалом для работы, который есть здесь, что нужно заказать, привезти, на это составь список. А теперь выслушай, что я думаю о тебе и твоих намерениях! Дай мне немного времени, чтобы выразить себя: я ученый и попытаюсь представить себе дело с точки зрения мыслителя, другого языка у меня нет. Послушай меня еще раз, как терпеливо ты это делал когда-то в прежние времена.
– Я попытаюсь. Говори.
– Вспомни, как я еще в наши школьные годы иногда говорил, что считаю тебя художником. Тогда мне казалось, что из тебя вышел бы поэт; при чтении и письме у тебя была определенная антипатия к понятиям и абстракциям, и ты особенно любил в языке слова и звуки, которым свойственны чувственно – поэтические качества, то есть слова, при помощи которых можно себе что-то представить.
Гольдмунд перебил: – Прости, но эти понятия и абстракции, которые ты предпочитаешь, разве они не представления и образы? Или ты употребляешь и любишь для выражения мысли действительно слова, за которыми ничего нельзя себе представить? Разве можно вообще мыслить, не представляя себе что-нибудь при этом?
– Хорошо, что ты спрашиваешь! Но, разумеется, можно мыслить без представлений! Мышление не имеет с представлениями ничего общего. Оно осуществляется не в образах, а в понятиях и формулах. Именно там, где кончаются образы, начинается философия. Это и было как раз то, о чем мы так часто спорили в юности: для тебя мир состоял из образов, для меня – из понятии. Я все время говорил тебе, что ты не годишься в мыслители, я и говорил также, что это не является недостатком, потому что ты владеешь миром образов. Будь внимателен, я поясню. Если бы ты вместо того, чтобы идти в мир, стал мыслителем, то могло бы случиться непоправимое. Ты бы стал мистиком. Мистики – это, коротко и несколько грубо говоря, те мыслители, которые не смогли освободиться от представлений, то есть вообще не мыслители. Они втайне художники: поэты без стихов, художники без кисти, музыканты без звуков. Среди них есть в высшей степени одаренные и благородные умы, но они все без исключения несчастные люди. Таким мог стать и ты. Вместо этого ты, слава Богу, стал художником и овладел миром образов, где ты можешь быть творцом и господином, вместо того чтобы оставаться незадачливым мыслителем.