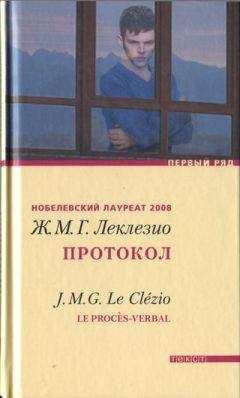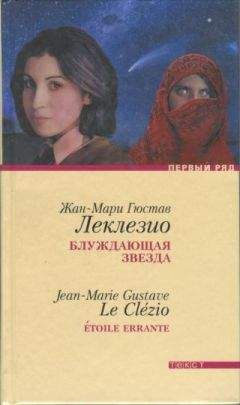Под Комблем мы встречаемся с французскими дивизиями. Они выглядят еще хуже, еще измученнее нас. Лица с запавшими глазами, изодранное, измазанное грязью обмундирование. У некоторых нет обуви, ноги обмотаны какими-то окровавленными тряпками. В колонне военнопленных — германский офицер. Солдаты издеваются над ним, оскорбляют его. Это всё из-за газовой атаки, которая погубила столько наших. Несмотря на лохмотья, в которые превратился его мундир, он держится гордо и вдруг набрасывается на них. «Это вы первыми применили газы! — кричит он на безупречном французском языке. — Вы вынудили нас так воевать! Вы! Вы!» В ответ воцаряется впечатляющее молчание. Все отводят глаза, а офицер занимает свое место среди пленных.
Потом мы входим в деревню. Я так и не узнал ее названия: пустынные улицы в сером утреннем свете, дома в руинах. Стук наших сапог странно отдается под дождем: будто мы попали на край света, на границу небытия. Мы становимся лагерем на развалинах. Весь день мимо идут обозы, грузовики Красного Креста. Когда перестает дождь, небо заволакивает тучей пыли. Дальше, там, где деревенские улицы переходят в окопы, снова грохочут пушки, а совсем далеко икают снаряды.
У горящих среди развалин костров из досок канадцы, солдаты Территориальных войск, французы братаются, обмениваются именами. Другие ничего не говорят, и никто их ни о чем не спрашивает. В полном изнеможении они бродят и бродят по улицам, не в силах остановиться. Вдали слышны выстрелы, слабые, словно хлопки петард. Нас занесло в неведомую страну, в непостижимое время. Один и тот же день, одна и та же ночь неотступно преследуют нас. Как давно уже мы не разговаривали! Как давно не произносили женского имени! В глубине души мы ненавидим войну.
Повсюду вокруг нас изуродованные улицы, разрушенные дома. На железнодорожном полотне, чудом не пострадавшем от обстрела, валяются перевернутые, развороченные вагоны. На них тряпичными куклами повисли тела. Поля вокруг деревни, насколько хватает глаз, завалены конскими трупами, большими, темными, словно мертвые слоны. Над падалью вьются вороны, от их скрипучего карканья вздрагивают оставшиеся в живых. В деревню входят колонны военнопленных, жалких, больных, израненных. С ними плетутся мулы, хромые лошади, тощие ослы. Воздух отравлен гарью и вонью разлагающихся трупов. Несет как из погреба. Германский снаряд завалил туннель, где расположились на ночлег французы. Отставший солдат ищет свою часть. Вцепившись в меня, он повторяет: «Я из Сто десятого пехотного. Из Сто десятого. Не знаете, где они?» В воронке у подножия разрушенной часовни Красный Крест установил стол, на котором вповалку лежат мертвые и умирающие. Мы спим в окопе у Фрежикура, потом, на следующую ночь, — в окопе у Порт-де-Фер. Наш марш по равнине продолжается. По ночам единственными нашими ориентирами остаются огоньки артиллерийских батарей. Прямо перед нами — Сайи-Сайизель, окутанный, словно вулкан, черным облаком. Совсем рядом, на севере, на холмах Батакка, и на юге, в лесу Сен-Пьер-Вааст, стреляют пушки. Уличные бои ночами в деревнях — в ход идут гранаты, винтовки, револьверы. Засевшие в окнах разрушенных домов пулеметчики поливают перекрестки, косят людей. Треск, запах серы и фосфора, в облаках дыма пляшут тени. «Осторожно! Не стрелять!» Вместе с какими-то незнакомыми солдатами (французами? англичанами Хейга?) я сижу скрючившись в окопе. Грязь. Вот уже который день не хватает воды. Тело мое горит от жара, меня сотрясает рвота. Горло наполнено едким запахом, я кричу, сам того не желая: «Газы! Газовая атака!..» Мне кажется, что всё вокруг залито кровью, она течет, течет без остановки, затопляя воронки, канавы, проникая в разрушенные дома, струится в рассветный час по изрытым снарядами полям.
Меня несут двое. Тащат, подхватив под руки к палатке Красного Креста. Я долго лежу на земле — так долго, что превращаюсь в раскаленный камень. Потом я в грузовике, он скачет по ухабам, петляет среди воронок. Врач в лазарете, в Альбере, похож на Камаля Буду. Он измеряет мне температуру, щупает живот. «Тиф, — говорит он. Потом добавляет (или мне это приснилось?): — В войнах побеждают вши».
На Родригес, лето 1918–1919 годов
Наконец-то свобода — море. Все те страшные, мертвые годы я ждал этой минуты — когда вместе с толпой возвращающихся в Индию, в Африку демобилизованных солдат поднимусь на борт парохода. Представлял себе, как мы будем смотреть на море — с утра до вечера и даже ночью, когда позади корабля сверкает в лунном свете пенный след. За Суэцким каналом ночи совсем теплые. Мы вылезаем из трюмов и спим прямо на палубе. Я заворачиваюсь в солдатское одеяло: это одеяло, да еще моя форма цвета хаки, да холщовый мешок, в котором я везу свои документы, — вот и все, что осталось мне на память об армии. Я так давно уже сплю под открытым небом, в грязи, что деревянная палуба под звездным небосводом кажется мне просто раем. Мы болтаем с остальными солдатами — по-креольски или на пиджин-инглиш, — поем, без конца рассказываем друг другу что-то. Преображенная фантазией рассказчиков, война успела уже превратиться в легенду. Рядом со мной на палубе сидят сейшельцы, маврикийцы, южноафриканцы. С Родригеса же — никого, ни одного из тех, кто вместе со мной участвовал тогда в перекличке, там, у здания телеграфа. Я вспоминаю радость Казимира, когда выкрикнули его имя. Неужели я единственный, кто выжил в этой бойне — и то по милости вшей?
Теперь я думаю о Лоре. Когда можно, иду на самый нос и, стоя у кабестана, всматриваюсь в горизонт. Глядя на темную синеву моря, на облака, я думаю о Лорином лице. Мы проплываем недалеко от Адена, проходим мыс Гарда-фуи, где-то в районе крупных портов, названия которых будили наше с Лорой воображение там, в Букане: Момбаса, Занзибар. Мы приближаемся к экватору, воздух уже раскален, стоят сухие, сверкающие звездами ночи. Я наблюдаю за летучими рыбами, альбатросами, дельфинами. С каждым днем мне кажется, что я лучше вижу Лору, ее голос становится слышнее, вот я уже различаю ее насмешливую улыбку, свет ее глаз. В Оманском заливе нас настигает потрясающая буря. В небе ни облачка, яростный ветер обрушивает на пароход волны, которые с силой таранят этот плавучий утес. Корабль сильно качает, волны захлестывают нижнюю палубу, на которой мы расположились. Хочешь не хочешь, приходится покидать наш «курорт» и спускаться в трюм. Матросы говорят, что мы попали в хвост шторма, который проходит над Сокоторой, и правда, к вечеру на судно обрушивается страшный ливень, заливая трюмы. Мы сменяем друг друга у помпы, а в это время вода потоками струится у нас под ногами по дну трюма, смывая мусор и нечистоты. Но вот на море и в небе вновь воцаряется покой. Что за свет! Вокруг нас — бескрайняя морская синь, по которой медленно катятся длинные волны с пенистой бахромой.
Стоянки в портах Момбасы и Занзибара, переход до Таматаве — все это промелькнуло незаметно. Я почти не покидаю палубы, разве что днем, в часы, когда особенно яростно палит солнце, или во время ливней. Я не спускаю с моря глаз, наблюдаю все перемены в его цвете и настроении, оно предстает передо мной то совершенно гладким, без волн, чуть подрагивающим от ветра, то суровым, без горизонта, серым от дождя, ревущим, швыряющим в нас, словно проклятия, свои водяные горы. Я снова думаю о «Зете», о путешествии в Английскую лощину. Все это кажется таким далеким: Ума с острогой в руке, скользящая по речному песку, ее сонное тело рядом со мной под сияющим небом. Здесь благодаря морю я наконец-то вновь обретаю ритм, цвет мечты. Я знаю, что должен возвратиться на Родригес. Это живет во мне, я должен туда вернуться. Только вот поймет ли меня Лора?
Когда длинная пирога, обслуживающая рейд Порт-Луи, причаливает к берегу, толпа, шум, запахи оглушают меня, как в Момбасе, и на какой-то миг мне хочется возвратиться на пароход, который должен отправиться дальше. Но тут в тени баньянов я вижу фигурку Лоры. Еще мгновение — и она сжимает меня в объятиях, увлекает за собой по улицам к вокзалу. Несмотря на обуревающие нас чувства, мы беседуем не торопясь, словно расстались только вчера. Она расспрашивает меня о плавании, о военном госпитале, говорит о письмах, которые писала мне. Потом спрашивает: «Но почему тебя так постригли — как каторжника?» Я отвечаю: «Из-за вшей!» На какое-то время воцаряется тишина. А затем, пока мы идем по улицам, которых я больше не узнаю, к вокзалу, она снова принимается расспрашивать меня об Англии, о Франции.
За эти годы Лора изменилась, и я думаю, что, если бы она не стояла в сторонке в своем белом платье, том самом, которое было на ней, когда я отправлялся на Родригес, я бы ее не узнал. В вагоне второго класса, направляющемся в Роз-Хилл и Катр-Борн, я замечаю ее бледность, темные тени под глазами, горькие складочки у рта. Она по-прежнему прекрасна, в глазах ее по-прежнему горит этот огонек, эта беспокойная живость, которую я так люблю, но в ней чувствуется усталость, слабость.