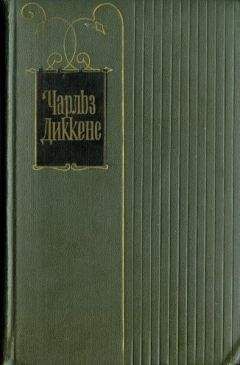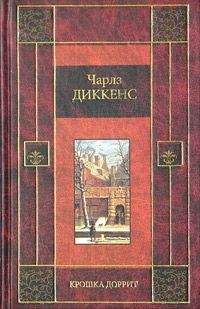– Очень хорошо, что это вы, Эффери. – Мне нужно вас кое о чем спросить.
Но Эффери торопливо ответила:
– Нет, нет, Артур. Ради бога, не спрашивайте меня ни о чем! У меня наполовину отшибло разум страхом и наполовину – снами. Не спрашивайте меня ни о чем! Не знаю я, что есть, и чего нет, и что было, и чего не было! – С этими словами она убежала от него и больше не показывалась ему на глаза.
Миссис Эффери не была охотницей до книг, а скудное освещение в комнате не позволяло ей заниматься шитьем, даже если бы она того хотела, а потому все свои вечера она просиживала теперь в том темном углу, откуда появилась перед Артуром в день его приезда, и самые невероятные мысли и подозрения, касавшиеся ее мужа, ее госпожи и таинственных звуков старого дома, роились у нее в голове. В то время, когда миссис Кленнэм с неистовым пылом твердила вслух свой религиозный урок, мысли эти нет-нет да и заставляли Эффери оглядываться на дверь, и, пожалуй, ее ничуть бы не удивило, если бы оттуда вдруг вышла какая-то темная фигура и увеличила собой число внимающих благочестивым поучениям.
Вообще же Эффери употребляла все усилия, чтобы ни словом, ни жестом не привлекать к себе внимания двух умников, и лишь в редких случаях (большей частью это бывало в час, когда вечернее бдение уже подходило к концу) она вдруг выскакивала из своего угла и с перекошенным от страха лицом шептала мистеру Флинтвинчу, мирно читавшему газету у столика миссис Кленнэм:
– Вот опять, Иеремия! Слышишь? Что это за шум?
Но шум, если он и был, уже успевал затихнуть, и мистер Флинтвинч рычал на нее с такой яростью, как будто это она против его воли срезала его с веревки:
– Эффери, старуха, ты опять за свое! Ну погоди, вот я тебя сейчас так угощу, что тебе не поздоровится!
Настало время возобновить знакомство с семейством Миглз, и вот в один субботний полдень, памятуя свой уговор с мистером Миглзом при посещении Подворья Кровоточащего Сердца, Кленнэм отправился в Туикнем, где у мистера Миглза имелся собственный коттедж. День выдался погожий, ясный, и так как Артуру, давно не бывавшему в родных краях, любая сельская дорога Англии судила много интересных впечатлений, он отправил свой багаж, с дилижансом, а сам решил идти пешком. Была тут для него и прелесть новизны – на чужбине ему редко приходилось разнообразить свой досуг долгими пешеходными прогулками.
Он выбрал путь на Фулем и Путин, ради удовольствия пройтись через вересковую пустошь. Там солнце светило особенно ярко и радостно; но, еще не успев далеко уйти по дороге, ведущей в Туикнем, он уже блуждал в неведомых далях других дорог, более призрачных и туманных. Они открылись перед ним, как только мерный, бодрящий шаг и прелесть окружающего ландшафта сделали свое дело. Когда бродишь один в сельской тиши, трудно не отдаться раздумью. А у Кленнэма так много было нерешенных вопросов, что пиши для размышлений ему хватило бы даже, если бы он шел на край света.
Первым был вопрос, который почти не выходил у него из головы в последнее время: что делать дальше, к какому занятию себя приставить и где это занятие искать? Он отнюдь не был богат, и каждый день нерешительности и бездействия увеличивал его тревоги, связанные с отцовским наследством. Стоило ему задуматься о том, как лучше распорядиться этим наследством, чтобы сохранить его в неприкосновенности или приумножить – и тотчас же вновь являлась беспокойная мысль, что где-то есть человек, который вправе требовать исправления причиненного ему зла. Об одном только этом можно было бы размышлять в течение самой длинной прогулки. Но был и другой предмет – его отношения с матерью, которую он аккуратно навещал теперь три-четыре раза в неделю, и на взгляд все шло у них гладко и мирно, однако же взаимное доверие так и не установилось. Неизменным и едва ли не главным предметом его дум и забот оставалась Крошка Доррит; в силу превратности его собственной судьбы и всего того, что ему пришлось узнать о судьбе и жизни этой девушки, она была теперь единственной живой душой, с которой его связывали узы теплых человеческих чувств – уважения, бескорыстного участия, благодарности, сострадания, узы, основанные на невинной доверчивости, с одной стороны, и ласковом покровительстве – с другой. В раздумья Кленнэма о ее будущем невольно вплеталась мысль о том дне, когда всеразрешающая рука смерти даст, наконец, свободу ее отцу; ибо только такой оборот событий позволил бы Артуру на деле проявить свое дружеское участие, переменить всю ее жизнь, убрать тяготы с ее нелегкого пути, предоставить ей домашний кров, которого она никогда не имела; иными словами, он принял решение удочерить это бедное дитя долговой тюрьмы и сделать так, чтобы оно обрело отдых и покой. Быть может, его мысли занимал и еще один предмет, имевший непосредственное отношение к тому месту, куда он направлялся; но тут все очертания были настолько смутны, что скорей даже это был не предмет, а некая призрачная дымка, обволакивающая все прочие раздумья.
Уже пустошь осталась позади, когда он заприметил на дороге пешехода, идущего в ту же сторону, и что-то в облике этого пешехода показалось ему знакомым. Где-то он уже видел этот наклон головы, эту сосредоточенно-задумчивую манеру в сочетании с твердым, энергичным шагом. Но вот пешеход остановился и сдвинул шляпу на затылок, как бы рассматривая какую-то вещь, – и Кленнэм узнал Дэниела Дойса.
– Здравствуйте, мистер Дойс, – сказал Кленнэм, поравнявшись с ним. – Рад встретить вас снова, и к тому же в местах, куда более приятных, нежели Министерство Волокиты.
– А, приятель мистера Миглза! – воскликнул опознанный преступник, оторвавшись от выкладок, которые он, видимо, делал в уме, и пожимая руку Артуру. – Очень приятно, сэр. Вы уж извините, запамятовал вашу фамилию.
– Охотно извиняю. Тем более что фамилия ничем не прославленная. Не Полип.
– Знаю, знаю, – засмеялся Дойс. – Я уже вспомнил: Кленнэм. Рад вас видеть, мистер Кленнэм.
– Сдается мне, мистер Дойс, – сказал Артур, когда они зашагали дальше, – что мы с вами держим путь в одно и то же место.
– Значит, и вы в Туикнем? – спросил Дэниел. – Что ж, тем лучше.
Они очень быстро освоились друг с другом, и у них завязался оживленный разговор, за которым время летело незаметно. Злонамеренный изобретатель отличался скромностью и здравым умом; кроме того, он привык сочетать смелый и оригинальный замысел с точным и тщательным исполнением, и одно это, при всей его непритязательности, делало его человеком далеко не заурядным. Нелегко было заставить Дэниела Дойса разговориться о себе; поначалу он отделывался скупыми и уклончивыми ответами: да, он сделал то-то и то-то, такое-то изобретение принадлежит ему, и такое-то усовершенствование – тоже ему; но ведь таково уж его ремесло, знаете ли, таково уж его ремесло. Однако мало-помалу он уверился, что его расспрашивают не из праздного любопытства, и это развязало ему язык. Так Артур узнал, что он сын кузнеца, родом с севера; что мать, овдовев, отдала его в ученье к слесарю; что проучившись немного времени, он стал «придумывать разные мелочишки», и это повело к тому, что слесарь освободил его от контракта и отпустил с денежным подарком, благодаря которому он смог осуществить свою заветную мечту – определиться в ученики к опытному механику. В мастерской этого механика он провел семь лет, упорно трудился, упорно учился, упорно недосыпал и недоедал. Когда положенный срок пришел к концу, он не захотел уйти и еще семь или восемь лет работал в мастерской на жаловании; а после того подался на берега Клайда,[39] где снова работал и снова учился, сменяя книгу на молоток и сверло, чтобы пополнить свои теоретические и практические знания. Так прошло еще шесть или семь лет. Потом ему предложили поехать в Лион, и он принял это предложение; из Лиона перекочевал в Германию, а находясь в Германии, получил приглашение в Россию, в Санкт-Петербург, где дела у него пошли очень успешно, пожалуй успешней, чем где бы то ни было. Однако вполне естественное чувство влекло его в Англию; ему хотелось добиться успеха на родине, хотелось послужить ей в меру своих сил. И вот он вернулся. Открыл небольшой завод, изобретал, рассчитывал, строил и, наконец, после двенадцати лет неустанных трудов и стараний зачислен в Британский Почетный Легион – Легион Отвергнутых Министерством Волокиты, и удостоился Британского Большого Креста – креста, поставленного на его деле Полипами и Чваннингами.
– Можно только пожалеть, что вы затеяли это дело, мистер Дойс, – сказал Кленнэм.
– Верно, сэр, – но, с другой стороны, как же быть? Если человек имел несчастье изобрести что-то, что может принести пользу его отечеству, он должен добиться толку, чего бы это ни стоило.
– А не лучше ли махнуть рукой? – спросил Кленнэм.
– Невозможно. – Дойс покачал головой, задумчиво улыбаясь. – Мысль дана человеку не для того, чтоб быть похороненной в его голове. Мысль дана ему для того, чтобы создавать вещи, полезные людям. Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бороться за свое изобретение.