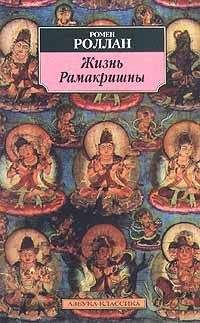Он начал рассказывать о своем творчестве, о деле, по его утверждению, завещанном ему Оливье, о пробуждающейся энергии французов, о яркой вспышке героического идеализма, которую предвещал Оливье. Эмманюэль жаждал стать его рупором, который парит над схваткой и возвещает грядущую победу, — он воспевал эпопею своей возродившейся нации.
Его поэмы были действительно порождением этой удивительной нации, которая пронесла сквозь века свой древний кельтский дух и в то же время упорно продолжала рядить свою мысль в старые доспехи и чтить законы римского завоевателя. Здесь ожили в первозданной чистоте отвага, дух героического разума, ирония, сочетание бахвальства с безудержной смелостью, столь свойственные этому народу, который посмел покуситься на бороду римских сенаторов, который разграбил Дельфийский храм и с хохотом метал свои стрелы в небеса. Но маленькому парижскому ремесленнику пришлось воплотить свои страсти — как это делали его деды в париках, как, несомненно, будут делать его праправнуки — в образы греческих героев и богов, умерших две тысячи лет назад. Удивительное чутье народа, сочетающееся с его потребностью, в абсолюте: прокладывая свою мысль по следам веков, он воображает, что закрепляет ее навеки. Оковы классической формы сообщали еще большее неистовство страстям Эмманюэля. Спокойная уверенность Оливье в судьбах Франции превратилась у его маленького ученика в страстную жажду деятельности, в убежденную в своем торжестве веру. Он хотел, он видел, он требовал этого торжества. Своей экзальтированной верой, своим оптимизмом он взволновал душу французов. Его книга была так же действенна, как выигранное сражение. Она пробила брешь в стене скептицизма и страха. Целое поколение молодежи ринулось вслед за ним, навстречу грядущему…
Эмманюэль оживился, глаза его загорелись, бледное лицо покрылось красными пятнами, голос стал крикливым. Кристофу бросился в глаза контраст между этим пожирающим пламенем и тщедушным телом, в котором оно пылало. Он видел в этом трагическую иронию судьбы. Певец силы, поэт, прославляющий поколение отважных спортсменов, действие, борьбу, не мог и шагу ступить, не задохнувшись, был очень воздержан во всем, соблюдал строгий режим, пил только воду, не курил, жил одиноко, таил все страсти в себе и был обречен по нездоровью на аскетический образ жизни.
Кристоф, наблюдая за Эмманюэлем, испытывал восхищение и вместе с тем братское сострадание. Он не хотел это обнаруживать, но, вероятно, глаза его выдали что-то, а быть может, гордому Эмманюэлю, рана которого постоянно кровоточила, показалось, что он читает в глазах Кристофа жалость, которая была для него нестерпимей ненависти. Его пыл мгновенно угас. Он умолк. Тщетно пытался Кристоф снова вызвать доверие. Душа замкнулась. Кристоф видел, что ранил ее.
Враждебное молчание затягивалось. Кристоф встал. Эмманюэль, прихрамывая, проводил гостя до двери. Походка подчеркивала его уродство, — он знал это, но из самолюбия делал вид, что это ему безразлично; однако при мысли, что Кристоф наблюдает за ним, он чувствовал, как усиливается его неприязнь.
В тот момент, когда Эмманюэль холодно прощался со своим гостем, молодая элегантная дама позвонила у его двери. Ее сопровождал франт, которого Кристоф узнал, ибо не раз встречал его на премьерах, где он улыбался направо и налево, непрерывно болтал, в виде приветствия махал рукой, целовал дамам пальчики и, сидя в первых рядах партера, оборачивался, расточая улыбки в глубину зрительного зала; не зная его имени, Кристоф окрестил его «болваном». При виде Эмманюэля болван и его спутница бросились к «дорогому учителю» с назойливыми и фамильярными излияниями. Кристоф слышал уходя, как Эмманюэль сухо сказал, что не может их принять, — он занят. Кристофа изумляло уменье этого человека быть неприятным. Он не знал причин, по которым Эмманюэль недружелюбно встречал богатых снобов, которые оказывали ему честь своими бесцеремонными визитами. Они были щедры на красивые фразы и восхваления, но не пытались помочь ему в нужде, так же как пресловутые друзья Цезаря Франка не догадывались разгрузить его от уроков музыки, которые тот вынужден был давать до конца своей жизни, чтобы существовать.
Кристоф еще несколько раз заходил к Эмманюэлю. Однако ему так и не удалось восстановить задушевный тон первого свиданья. Эмманюэль не выражал ни малейшей радости при виде Кристофа и держал себя настороженно и сдержанно. Лишь изредка, уступая своей настоятельной потребности к излияниям, когда какое-нибудь слово Кристофа волновало его до глубины души, он отдавался порыву восторженной откровенности, и присущий ему идеализм озарял его душу вспышками сверкающей поэзии. Затем внезапно остывал, замыкался в угрюмом молчании, и Кристоф снова видел перед собой врага.
Слишком многое разделяло их. Разница в возрасте тоже играла немалую роль. Кристоф стремился к полному самопознанию и господству над собой. Эмманюэль находился еще в периоде формирования, протекавшем у него гораздо сумбурнее, чем у Кристофа. В этом оригинальном существе сочетались самые противоречивые элементы, постоянно боровшиеся между собой: могучий стоицизм, стремившийся подавить наследственные, атавистические желания (он был сыном алкоголика и проститутки); неистовое воображение, осаживаемое удилами железной волн и все-таки взвивавшееся на дыбы; безграничный эгоизм и безграничная любовь к ближним, причем никогда нельзя было предвидеть, что победит; героический идеализм и болезненная жажда славы, заставлявшая его мучиться из-за превосходства других. Если мысль Оливье, его независимость, его бескорыстии ожили в Эмманюэле, если он превосходил своего учителя поэтическим талантом, плебейской живучестью, которая не знает отвращения к деятельности, и выносливостью, защищавшей его от всяких разочарований, то ему все же было очень далеко до безмятежности брата Антуанетты, — у него был слишком тщеславный и беспокойный нрав, а тревоги и волнения окружающих только усугубляли его собственные.
У него была бурная связь с молодой женщиной — той самой соседкой, которая встретила Кристофа, когда он пришел в первый раз. Она преданно любила Эмманюэля и заботилась о нем, вела хозяйство, переписывала его произведения, писала под диктовку. Она была некрасива, но, к несчастью, это была страстная натура. Она родилась в бедной семье; долгое время работала в переплетной мастерской, затем служила на почте; детство ее прошло в гнетущей обстановке, столь обычной для бедных рабочих Парижа: в скученности, в изнурительном труде, постоянно на людях, без воздуха, без покоя, без возможности сосредоточиться, оберечь святая святых своего сердца. В ее гордой душе таилось благоговейное стремление к смутному идеалу справедливости, и она испортила себе глаза, переписывая по ночам, зачастую без огня, при свете луны, «Отверженных» Гюго. Она встретила Эмманюэля, когда тот был еще несчастнее, чем она, — больная и без средств, — и отдалась ему. Эта страсть была первой, единственной любовью в ее жизни. И она цеплялась за нее с жадным упорством голодного человека. Ее привязанность очень тяготила Эмманюэля, — он скорее терпел ее, чем разделял. Его трогала ее преданность: он понимал, что эта женщина — его лучший друг, единственное существо, для которого он все на свете, и что она не может обойтись без него. Но именно это его и угнетало. Эмманюэлю необходима была свобода, необходимо было одиночество, а эти глаза, жадно вымаливавшие ласку, преследовали его; он обращался с нею сурово, у него нередко возникало желание крикнуть ей: «Убирайся!» Его раздражало, что она некрасива и груба. Хотя он был мало знаком со светским обществом и выказывал к нему презрение (он страдал, чувству я себя там еще уродливее и смешнее), он любил изящество, его привлекали женщины, питавшие к нему такое же чувство (он не сомневался в этом), как он к своей подруге. Он старался проявлять к ней любовь, которой не чувствовал, или по меньшей мере не огорчать ее невольными вспышками ненависти. Но и это не удавалось ему, — в его груди жило благородное сердце, жаждавшее делать добро, и жестокий демон, способный причинять зло. Эта внутренняя борьба и сознание, что он не в силах выйти из нее победителем, вызывали в нем глухое раздражение, которое он вымещал на Кристофе.
Эмманюэль не мог преодолеть в себе чувство двойной антипатии к Кристофу: одна проистекала из его старой ревности, из той детской неприязни, которая не ослабевает, даже когда причина ее уже забыта; другая была вызвана ярым шовинизмом. Франция была для Эмманюэля воплощением его мечтаний о справедливости, милосердии, братстве человечества, взлелеянных лучшими людьми минувшей эпохи. Он не противопоставлял ее остальной Европе как врага, чье благополучие создается за счет разорения других народов; он ставил ее во главе народов как законную повелительницу, царящую на благо всем, вооруженную идеалом и ведущую за собой человечество. Он скорее предпочел бы видеть Францию мертвой, чем допустить, что она может совершить несправедливость. Он свято верил в нее. Он был чистокровным французом по культуре, по взглядам — он был воспитан на французских традициях, глубокий здравый смысл которых он познал инстинктивно. Эмманюэль искренне отвергал мнения иноземцев, относился к ним со снисходительным пренебрежением и раздражением, если иностранцы возражали против столь унизительной роли, которую он им предоставлял.