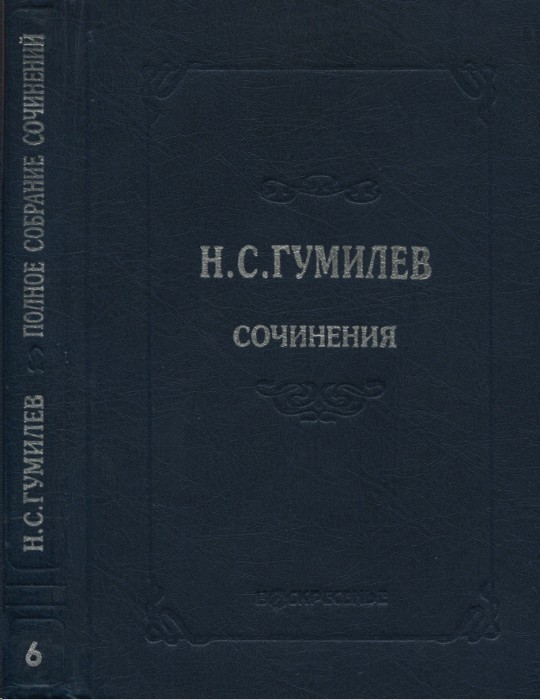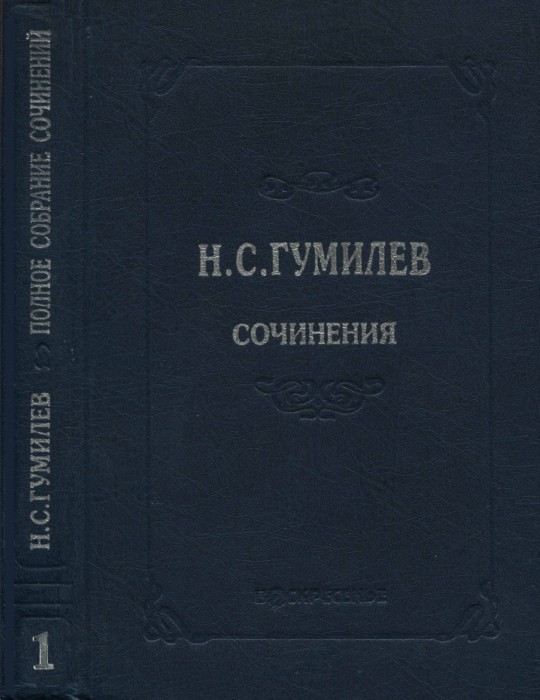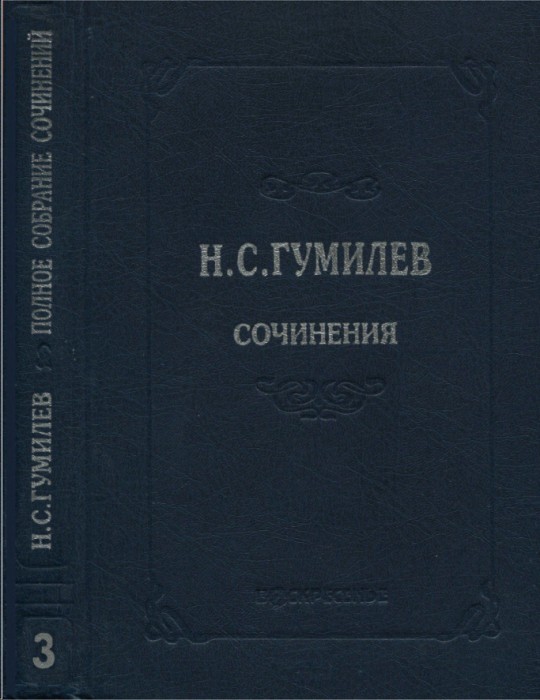самое идиллическое.
Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. «Совсем, как на войне», — пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник, — в каждой части есть свои забавники — бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами.
И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал: «К коням», — но испуганные лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее прежде, чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине.
Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: «В порядке, в порядке». Я подскакиваю и докладываю: «Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!» Он останавливается и отвечает: «Поезжайте найдите его».
Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах и он сел на первую ему предложенную.
Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те, и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, что снаряды летали и в нас.
Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.
Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два наши улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии.
Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии — бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами.
Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.
У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли восемь винтовок и очень этого стыдились. Все-таки, подходя к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе.
Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкински ясным языком, с солдатской вежливостью отвечая на вопросы: «Так точно, никак нет». И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать «в гражданстве северной державы», то они незаменимы «в ее воинственной судьбе», а поэт знал, что это — одно и то же.
Наталье Сергеевне Гончаровой
Правду сказать, отец его был купцом. Но никто не осмелился вспомнить об этом, когда, по возвращении из Кембриджа, он был принят самим вице-королем.
На артистических вечерах он появлялся в таких ярких одеждах, так мелодично декламировал отрывки из «Махабхараты», так искренне ненавидел все европейское, что его успех в Англии был обеспечен, и не одно рекомендательное письмо от престарелых леди увез он, отправляясь во втором классе в Бомбей.
В родном княжестве, потрясенный его великолепными кожаными чемоданами, раджа предложил ему на выбор или место сборщика податей с проходивших караванов, или чин генерала. Все думали, что он выберет первое, потому что караванов было много, солдат мало. Он выбрал последнее. Никто не знал, что старый американец, которому он объяснял радж-йогу, умер, оставив ему в завещании столько же, сколько своему лакею, то есть довольно много.
В день своего назначения генерал явился во дворец. Хитрец, он предвидел все, и в его великолепных чемоданах оказалась совсем готовая великолепная генеральская одежда. Весь город собрался смотреть на него. Старуха-мать рыдала от гордости, когда он промчался мимо нее на специально привезенной мотоциклетке. А лучший художник города отдал целую рупию слугам раджи за право смотреть в замочную скважину. Он смотрел долго, терпеливо и умело, как губка воду, впитывая впечатленье от роскошного костюма генерала и от его непомерно чванного лица. А потом пошел раскачивающейся верблюжьей походкой, что означало у него творческую задумчивость.
Самые нежные, самые яркие краски горели в точеных, как лепестки лотоса, деревянных чашечках, самые тонкие кисточки летали по ним с такой же быстротой и легкостью, как пальцы девушки летают по клавишам фортепиано. Возникала лакированная красная стена, возникало томительно-синее небо, и на фоне