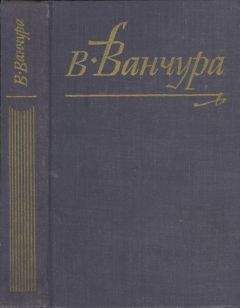Этого не может быть, — выдохнула Китти.
— А я говорю — да. Знаешь историю про охотника? Он опять ее рассказывает, но теперь выходит так, что охотник этот служил у султана и женился на Филомене.
Кто это — Филомена?
Никто. Князь ее выдумал, или…
— Что ты хотел сказать? — спросила Китти, когда он осекся, но Марцел начал с другого конца:
Во второй раз он рассказывает все не так.
Думаешь, он лгал?
Да!
Тут оба подростка приблизились друг к другу — словно то сходились объятия их общего разочарования. Китти берет в рот кончик ремешка, обернутого вокруг ее запястья, и, крепко зажав его зубами, дергает руку.
Ты-то пойдешь? — спрашивает Марцел.
Как же мне не пойти? Могу ли я так поступить?
— Думаю, он нас не возьмет. И думаю — он собирается совсем не туда, куда говорит. Он убежит к графу Коде!
— Неправда!
— Правда, — понизив голос, говорит Марцел. — Я это знаю. Корнелия спрятала свои вещи в коровнике — она убежит с ним!
Китти не сразу отвечает, она краснеет, она дергает ремешок. Наконец девочка прекращает игру своего отчаяния и роняет:
Значит, все кончено? Нет! — возражает она сама себе. — Корнелия — дурочка!
Может быть, но мне известно, что она на это рассчитывает.
— На что?
На то, что убежит с князем. Я своими глазами видел, как он прикидывал в руках вещи Корнелии, а теперь делает вид, будто и не знает, что она отказалась от места. Они сговорились!
А я все равно пойду, — заявляет Китти. — Я пойду, я хочу вырваться отсюда!
Неужели ты пойдешь вместе с Корнелией? — цедит сквозь зубы Марцел.
И Китти снова не хватает слов. Она растеряна: ей приходит мысль о Михаэле, ей хочется позвать сестру, побежать к ней — но Китти колеблется, прислушиваясь к тому, как барабанит по окнам дождь.
— Китти! Китти! Китти! — взывает Марцел, но маленькая барышня не поднимает головы.
Она подавлена. Кисть ее затекла — слишком сильно затянулся ремешок на запястье, и эта боль доставляет ей теперь наслаждение. Китти рвет ремешок — и вместо того чтобы заговорить о Михаэле, упоминает о Сюзанн.
Ох эта парижанка! — произносит она язвительным тоном горничных и осыпает оскорблениями бедную свою учительницу, словно и сама-то была злой.
Она любит, любит князя, — заканчивает Китти, — любит его так же, как Корнелия и как Михаэла…
А что же Марцел? Сунув руку в карман, он пересчитывает свои шестьдесят крон.
— Ну что ж, — вздыхает он, пропустив сквозь пальцы последнюю монетку. — Пойдем одни. Слава богу, нам не у кого отпрашиваться.
За ужином француженка поставила в известность пана Стокласу, что кто-то из ее родственников заболел и она должна вернуться в Париж. Смысл ее намерения был весьма прозрачным, и хотя все мы старались не ставить мадемуазель в неловкое положение и не желали задерживаться на этом предмете долее, чем того требовало приличие, все же мы не могли просто проглотить все свои вопросы. Однако участливость наша получалась довольно топорной. Сюзанн отвечала односложно. Она не хотела обнаруживать беспокойства, которое завтра могло оказаться пустым, и сдержанность ее, казалось, выражала, что все свои действия она предпринимает на собственный риск и ответственность.
Я рад, что вы не очень спешите, — сказал Стокласа. — Кто знает, быть может, ваши дела в Париже за месяц уладятся, так что вам и не придется уезжать.
За месяц? — недоуменно повторила Сюзанн.
Я был бы вам весьма обязан, — пояснил хозяин, — если бы вы, мадемуазель, не меняли своего решения, принятого вами при поступлении ко мне.
Сюзанн опускает голову, а князь рассказывает Яну военные эпизоды. Он все говорит, говорит, будто ни слова по-французски не понимает. Вдруг он прерывает поток своих речей кратким замечанием:
— А я-то радовался, мадемуазель, тому, что мы с вами вместе доедем до Крумлова. Какая жалость, что вы задерживаетесь!
Этот небрежный тон заставляет меня позавидовать Стокласе. Повезло этому малому, что не пришлось ему выложить уже подготовленные деньги! Ведь Алексей-то все равно уезжает! Ему и в голову не приходит ждать Сюзанн.
После некоторой паузы Михаэла бросает:
— Париж не так велик, чтобы в нем не встретиться… В голосе ее ровно столько же иронии, сколько и грусти. Она поднимается с места и, извинившись, собирается выйти из столовой, но Алексей останавливает ее словами:
— Я уеду рано утром… — и он прощается с Михаэлой и благодарит ее, причем некоторые из его слов имеют двойной смысл.
Минут за двадцать до полуночи я услышал, как кто-то выводит лошадей и запрягает.
«Внимание! — сказал я себе. — Я дам выскользнуть князю, но никто другой от меня не уйдет!»
Желая еще раз проверить запоры, я пошел в обход и добрался до подвала. Идя по пустынному подвальному коридору, я подумал о Ване. Что, если освободить его из-под ареста? Не поможет ли он мне?
Мысль эта показалась мне удачной, и я стал выкрикивать имя унтера. В ответ он забарабанил в дверь. Двинувшись в направлении этого грохота, я через несколько шагов обнаружил чулан, служивший полковой гауптвахтой. Я отпер дверь, и Ваня вырвался на волю как сумасшедший.
— Эй, эй, парень! — крикнул я ему вслед. — Думаешь, я даром тебя выпустил? Вернись! Вернись же!
Я кричал, всем на свете заклиная его вернуться, но негодяй бежал прочь со всех ног.
Я пустился за ним, и вдруг, в том месте, где коридор круто поворачивает, — падаю, лечу, низвергаюсь в какую-то пропасть… Пропасть?! Я свалился с высоты пяти ступенек, и — прямо головой в лоханку. Тем не менее мне показалось, что я умираю. А проклятая посудина меж тем с адским грохотом катилась с названных ступенек, отделявших одну часть коридора от другой…
Леший его знает, как объяснил себе Ваня шум, произведенный моим падением… Не подумал ли он, что я прибегнул к огнестрельному оружию? Возможно. Во всяком случае, он сломя голову кинулся вверх, к вестибюлю, издавая бессвязные вопли и проклятия.
Боже мой! Весь замок проснулся — я слышу хлопанье дверьми, крики, торопливые шаги и грозный голос князя Алексея Николаевича Мегалрогова, откликающегося на зовы своего денщика.
С синяком под глазом ковыляю я по лестнице из подвала на первый этаж. Что там творится? Еще три ступеньки, еще две, одна, и я наконец в вестибюле замка.
Кто это мечется тут, кто с кем схватился, чьи тени мелькают перед моим взором?
При свете единственной лампочки я разглядел, что князь, уже в шинели, борется с Ваней и расшвыривает чемоданы своих любовниц. Я разглядел Марцела и Китти, разглядел подоспевшую Корнелию, и ее выкрик рванул мне слух. Что это значит? Корнелия стоит перед дамой в дорожном пальто — и узнает в ней мадемуазель Сюзанн.
Тем временем князь, закинув за спину единственный свой мешок, вскочил на окно, обращенное к лесу, и в ту же секунду скрылся в ночной темноте.
А что же его друзья? Неужели никто не позовет его назад? Не тронется с места?
Так-таки и никто?
Нет! — Марцел!
Марцел метнулся к окну, с трудом взобрался на высокий подоконник — но вот он уже держится за раму, вот прыгает вниз. Вот он уже упал на землю, конечно, не без царапин.
Я бросаюсь к двери, отпираю, кричу — напрасно: под окном уже никого нет. Тут меня отталкивает Ваня и с проклятиями устремляется следом за своим господином.
Через несколько дней после отбытия князя лесничий Рихтера сказал мне, что тот обитает в лесу на холме Ветрник.
Может быть, в охотничьем домике? — спросил я.
Нет, — ответил Рихтера, — князь поставил палатку и полевую кухню в месте, которое мы называем «У канавы».
Какая перемена, какое унижение! — воскликнул я, вспоминая язык без костей и аристократические манеры пана полковника. — А я от всего сердца уступил бы тебе согретую постель и еды сколько влезет!
Замечаю, — бросил Рихтера, — вы с князем на ты.
Да, — кивнул я, — знаю, что это не так, но мне-то кажется, будто никогда я не обращался к нему иначе.
Боюсь, — помолчав, снова заговорил лесничий, — что я вынужден буду просить пана полковника убраться из наших краев…
Тут я прервал лесничего восклицанием и стал его уверять, что такие действия вовлекут его в большие неприятности.
Разве вы не знаете, — говорил я, — что у князя особая миссия и он хочет перед отъездом в Париж замести следы?
Опять вы начинаете? — махнул рукой лесничий. — Бросьте, я уже предостаточно наслушался подобной чепухи!
Я не начинаю, а кончаю, — возразил я. — Я напишу князю письмо на прощанье, пусть кто-нибудь из ваших объездчиков передаст ему.
Лесничий согласился и пошел по своим делам, а я сел за стол и, сжав ладонями голову, принялся сочинить письмо барону Мюнхгаузену:
«Твоя Корнелия и прочие девицы
от горя вне себя, рыдают безутешно.
К какой ни подступись — откроет шлюз поспешно
и — кончено! — сейчас на стол ложится.
в руке платок, в платке несчастный носик,
и — в рев, и сладу нет, беда, пиши пропало…
Брани ее, проси — не слушает нимало,
сквозь слезы в три ручья тебя ж еще поносит…
Зачем бежал? Зачем ты их покинул,
о старый грешник, с сердцем как ветошка!
Об их страданиях подумай хоть немножко!
Ведь твой уход бедняжек в ад низринул…»
У меня было в запасе еще с дюжину весьма лихих рифм, но волею судеб мне не дано было закончить послание, ибо на слове «ветошка» в мою комнату ворвалась Китти и, отбросив все приличия, принялась умолять меня сходить с нею в заповедник.