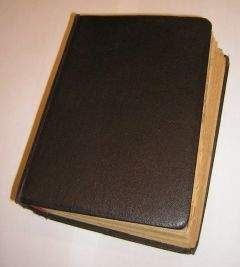Когда генерала Финка назначили начальником гарнизона крепости Перемышль, ему уже не представлялось так часто случая устраивать подобного рода зрелища; поэтому он с радостью ухватился за дело Швейка.
Таким образом Швейк очутился лицом к лицу перед тигром, который, сидя за длинным столом, курил одну папиросу за другой и слушал разглагольствования нашего бравого солдата, которые ему тут же переводились на немецкий язык, и как бы в знак согласия кивал головой.
Майор внес предложение телеграфно запросить бригаду о местонахождении 11-й маршевой роты 91-го полка, к составу которой принадлежит, согласно показаниям, подсудимый.
Генерал стал возражать, доказывая, что из-за такой оттяжки становятся призрачными быстрота производства в военно-полевых судах и самый смысл этого института. Ведь в деле имеется чистосердечное признание самого подсудимого, что он надел русскую военную форму, и кроме того еще крайне важное свидетельское показание, что подсудимый бывал в Киеве. Поэтому он, как председательствующий, предлагает удалиться на совещание, чтобы приговор мог быть немедленно объявлен и приведен в исполнение.
Майор продолжал, однако, настаивать на необходимости выяснения личности подсудимого, так как все это дело, по его имению, имеет громадное политическое значение. Установив личность, нетрудно будет раскрыть всю организацию и всех сообщников этого негодяя.
Майор был, очевидно, мечтатель-романтик. Он говорил еще о там, что, собственно говоря, надо искать какие-то нити, а вовсе не достаточно отправить на тот свет одного только человека. Ведь смертный приговор является лишь результатом предварительного следствия, которое, несомненно, даст полную картину, которая… и нити, которые…
Он так и не смог выпутаться из этих «нитей», но все его поняли и одобрительно закивали головами, даже и сам генерал, которому Майоровы «нити» особенно понравились, когда он представил себе, сколько на концах их повиснет новых военно-полевых судов. Поэтому он больше не возражал и потребовал, чтобы запросили бригаду, действительно ли в составе 91-го пехотного полка числится ординарец Иосиф Швейк и когда и при каких обстоятельствах таковой перешел на сторону русских.
В продолжение этих переговоров Швейка охраняли в коридоре два штыка; затем его снова вызвали и еще раз спросили, какого он полка. Наконец, его отправили в гарнизонную тюрьму.
Когда генерал Финк после этого безрезультатного заседания палевого суда вернулся к себе, он лег на диван и стал думать о том, как бы ускорить дело.
Он был твердо убежден, что ответ будет получен незамедлительно, но все же не с той быстротой, которой отличались его военно-полевые суды; кроме того предстояла еще процедура духовного утешения осужденного, которая только зря оттягивала самую казнь на целых два часа.
«Все равно, — рассуждал генерал Финк, — ведь мы можем предоставить ему, чтобы не терять времени, духовное утешение до вынесения приговора, до того, как будут получены сведения из бригады. Так или иначе, а висеть он будет!»
Генерал Финк велел позвать фельдкурата Мартинеца.
Это был несчастный законоучитель из Моравии, у которого начальник был такой дрянью, что подчиненный предпочел уйти от него на военную службу. Он был искренно верующим человеком и с прискорбием вспоминал своего духовного пастыря, который медленно, но верно шел по пути полного морального разложения: пил сливянку, как сапожник, и однажды ночью насильно затащил в постель к нему, девственнику, цыганку из табора, которую подцепил за околицей, когда пьяный возвращался из трактира.
Фельдкурат Мартинец полагал, что в качестве духовника раненых и умирающих на поле брани он искупал вину и своего нечестивца-священника, который, возвращаясь поздно домой, имел привычку будить его и без конца повторять:
«Эх, братишка, братишка! Мне бы теперь ядреную бабенку, и больше мие ничего на свете не надо!»
Но его надежды не оправдывались. Его переводили из гарнизона в гарнизон, и ему приходилось только раз в две недели читать в гарнизонной церкви проповеди солдатам и оберегать себя от соблазна, исходившего из офицерского собрания, где велись такие разговоры, что рассуждения его бывшего начальства о ядреных бабенках казались по сравнению с ними молитвой ангелу-хранителю. Другого дела у него не было.
К генералу Финку его обыкновенно вызывали в период крупных военных операций на театре военных действий, когда требовалось отпраздновать какую-нибудь победу австрийской аргмии; в этих случаях генерал Финк с такой же любовью, как военно-полевые суды, устраивал молебны.
Генерал Финк был таким австрийским патриотом, что о победе германского, турецкого или болгарского оружия он не молился. И, если германцы одерживали победу над французами или англичанами, он обходил это событие полным молчанием.
Зато незначительная стычка австрийских разведчиков с русским патрулем, которая раздувалась штабом в огромный мыльный пузырь поражения всей русской армии, давала генералу Финку повод для торжественных богослужений, так что у несчастного фельдкурата Мартинеца сложилось представление, будто генерал Финк является одновременно и главой католической церкви в Перемышле.
Генерал Финк устанавливал и церемониал такого богослужения — чаще всего по образцу службы в день тела господня. У него вошло в привычку после возношения св. даров выноситься полным карьером на коне на плац к самому алтарю и трижды провозглашать: «Ура, ура, ура!»
Фельдкурат Мартинец, чистая и верующая душа, неохотно ходил к генералу Финку. Тот, покончив с приказами по гарнизону, распоряжался обыкновенно налить чего-нибудь покрепче и принимался рассказывать новейшие анекдоты из идиотских книжонок, которые издавались редакцией одного юмористического журнала специально для военных. У него была собрана целая библиотека таких книжечек с самыми невероятными названиями, например, «Гинденбург в зеркале юмора», «Из нашего мясного канона», «Вторая сушка, полная юмору». Для разнообразия он затягивал лихую песню из солдатского песенника, не забывая все время усердно подливать фельдкурату и уговаривая его выпить и спеть что-нибудь в два голоса с ним. Потом он начинал говорить сальности, причем фельдкурат, к великому своему сокрушению, мог убедиться, что генерал ни в чем не уступал моравскому священнику.
Фельдкурат Мартинец с ужасом замечал, что нравственно падал все ниже и ниже, под влиянием частых встреч с генералом Финком.
Несчастному начинали нравиться ликеры, которыми угощал его генерал, да и к речам его он стал относиться снисходительнее; у него стали появляться какие-то совсем дикие фантазии, и за контушовкой, можжевеловой водкой и старым польским медом в седых от паутины бутылках, которые он распивал вместе с генералом, он забывал о боге, а между строк его молитвенника плясали перед его глазами женщины из генеральских анекдотов. Словом, отвращение к выпивкам с генералом у него постепенно исчезало.
Генералу тоже нравился фельдкурат Мартинец, который сначала представлялся ему каким-то святым Игнатием Лойолой[50], но теперь мало-по-малу приспосабливался к окружавшей его обстановке.
Как-то однажды генерал пригласил к себе двух сестер милосердия из полевого лазарета, которые, собственно говоря, там вовсе и не работали, а были только приписаны к нему для вида, получая жалованье и увеличивая свои доходы проституцией, как это было весьма распространено в те тяжелые времена. Он велел позвать и фельдкурата Мартинеца, который к тому времени уже сильно запутался в когтях греха, и устроил оргию… После этого фельдкурат Мартинец долго укорял себя за свое сластолюбие, которое он не мог искупить в ту ночь даже тем, что, идя домой через парк, по ошибке горячо помолился перед статуей бывшего подрядчика, а затем бургомистра города Перемышля, господина Грабовского, пользовавшегося в восьмидесятых годах большой популярностью.
Только тяжелые шаги военных патрулей нарушали его проникновенные слова:
— О, не суди раба твоего, господи, ибо ни один человек не окажется праведным перед лицом твоим, если не смилуешься ты и не оставишь ему прегрешения его. Да будет твой святой приговор не слишком суров. К твоей помощи взываю я и в твои руки предаю свой дух.
С того времени он несколько раз пытался, когда его вызывали к генералу Финку, отречься от всех мирских утех, ссылаясь на расстройство желудка; такую ложь во спасение он считал необходимой, чтобы его душа могла избежать геенны огненной, тем более, что, с другой стороны, он считал, что в силу военной дисциплины какой-нибудь фельдкурат, если генерал приказывал ему выпить, должен был беспрекословно исполнить это приказание, хотя бы из уважения к старшему в чине.
Правда, иногда ему это не удавалось, в особенности когда генерал после торжественных богослужений устраивал еще более торжественные кутежи на казенный счет. В таких случаях деньги брались просто из гарнизонной кассы или откуда придется, и фельдкурат ясно представлял себе, как он все более и более нравственно разлагается и становится какой-то дрожащей за свою шкуру дрянью.