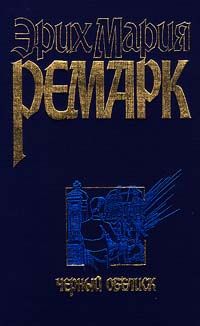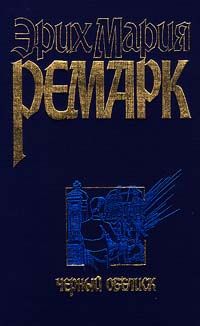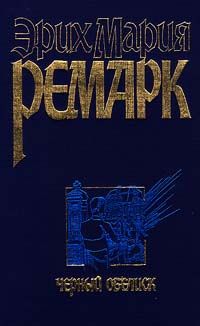Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии — но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказываются снова почти обесцененными; доллар стал неистовствовать, он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион двести тысяч, вчера — миллион четыреста. Ожидают, что завтра он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца — до десяти. Рабочие получают теперь заработную плату два раза в день — утром и под вечер, — и каждый раз им дают получасовой перерыв, чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покупки — ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. Да и быть сытым — совсем не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто набить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу.
Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстрации. За ним — сбившиеся в кучу машины воскресных экскурсантов. Странный контраст — серая, почти безликая масса жертв войны молча тащится по улице, а позади едва ползут машины тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные. А в машинах ослепительно пестреют роскошные летние туалеты — полотно и шелк тех, кто развалился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, смущенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуацию. Пешеходам на тротуарах легче: они просто отводят взгляд и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боковые улицы.
Солнце стоит высоко и жжет немилосердно, раненые начинают потеть; по их бескровным лицам течет нездоровый кислый пот. Вдруг позади раздается рев клаксонов. Один из владельцев машин не выдержал; ему хочется сэкономить несколько минут, и он пытается обогнать колонну, въехав на тротуар. Все инвалиды оборачиваются. Никто ничего не говорит, но ряды демонстрантов преграждают ему путь. Теперь, чтобы проехать, машине пришлось бы давить их. В ней сидят молодой человек в светлом костюме и соломенной шляпе и девушка. Он делает несколько нелепых жестов, выражающих недоумение, и закуривает сигарету. Каждый из увечных воинов, проходя мимо машины, смотрит на него. Не с упреком, нет, — инвалиды смотрят на сигарету, так как ветер разносит по улице ее крепкий аромат. Это очень дорогая сигарета, а никто из демонстрантов уже не может позволить себе курить слишком часто. Поэтому они и стараются, если удается, изо всех сил нанюхаться табачного запаха.
Я следую за колонной до церкви Девы Марии. Там стоят два национал-социалиста в мундирах и держат большой плакат: «Приходите к нам, камрады! Адольф Гитлер вам поможет!» Колонна обходит вокруг церкви.
Мы сидим в «Красной мельнице». Перед нами — бутылка шампанского. Она стоит два миллиона марок — столько, сколько получает за два месяца на себя и на семью безногий инвалид войны. Шампанское заказал Ризенфельд.
Он сел так, что ему видна вся площадка для танцев.
— Я догадался с самого начала, — заявляет он мне. — И хотел только посмотреть, как вы будете мне морочить голову. Аристократки не живут против маленькой конторы по установке надгробий и в таких домах!
— Удивительно, как вы, светский человек, могли сделать настолько ошибочный вывод, — отвечаю я. — А вам следовало бы знать, что в наши дни аристократки почти только так и живут. Их довела до этого инфляция. Дворцам пришел конец, господин Ризенфельд. А если он у кого еще и остался, то в таком дворце сдают комнаты. Деньги, полученные по наследству, растаяли. Королевские высочества живут в меблирашках, бряцающие саблями полковники с зубовным скрежетом пошли в страховые агенты, а графини…
— Довольно! — останавливает меня Ризенфельд. — Я сейчас заплачу. Дальнейшие разъяснения излишни. Но историю с фрау Вацек я раскусил тут же. Меня просто забавляли ваши неуклюжие попытки втереть мне очки.
Он смотрит вслед Лизе, которая танцует с Георгом фокстрот. Я уже не напоминаю этому оденвэльдскому Казанове, что он назвал Лизу француженкой, а ее походку сравнил с походкой полной и стройной пантеры, — это вызвало бы немедленный разрыв между нами, а нам до зарезу необходим гранит.
— Однако в целом это ничему не мешает, — примирительно говорит Ризенфельд. — Наоборот, она тем привлекательнее. Такие женщины — это сам народ… Посмотрите, как она танцует. Как… Как…
— Как полная и стройная пантера, — подсказываю я.
Ризенфельд косится на меня.
— Иногда вы кое-что понимаете в женщинах, — бурчит он.
— Научился… от вас!
Он чокается со мной, явно польщенный.
— Одно хотелось бы мне знать, — продолжаю я. — У меня такое ощущение, что у себя дома, в Оденвэльде, вы — безупречный гражданин и отец семейства: вы ведь нам как-то показывали фотографии своих трех детей у окруженного розами дома, в стены которого вы принципиально не вложили ни куска гранита, — как неудавшийся поэт, я ставлю вам это в большую заслугу; так почему вы, уехав оттуда, превращаетесь в этакого короля ночных клубов?
— Чтобы дома с тем большим удовольствием вести себя как добродетельный гражданин и отец семейства, — не задумываясь, отвечает Ризенфельд.
— Уважительная причина. Но зачем вам эти окольные дороги?
Ризенфельд усмехается.
— Таков мой демон. Двойственность человеческой природы. Никогда о такой штуке не слышали? А?
— Я не слышал? Да я сам образец подобного раздвоения.
Ризенфельд разражается обидным смехом, примерно таким же, как сегодня утром Вернике.
— Вы?
— Такая двойственность существует и на более высоком духовном уровне, — заявляю я.
Ризенфельд делает глоток вина и вздыхает:
— Действительность и фантазия! Вечная погоня, вечные противоречия. Или… — иронически добавляет он, овладев собой, — в вашем случае, так как вы поэт, конечно, тоска и утоление, Бог и плоть, космос и локус…
К счастью, снова звучат трубы. Георг и Лиза возвращаются с танцевальной площадки. Лиза — это прекрасное видение в абрикосовом крепдешине. Ризенфельд, узнав о ее плебейском происхождении, потребовал, чтобы мы искупили свой обман и в качестве его гостей все вместе отправились в «Красную мельницу». Он отвешивает Лизе поклон.
— Разрешите, сударыня, пригласить вас на танго, если вы не…
Лиза на голову выше Ризенфельда, и зрелище обещает быть интересным. Но, к нашему удивлению, гранитный король оказывается выдающимся мастером танго. Он не только владеет аргентинским вариантом, но также бразильским и, очевидно, несколькими другими вариантами. Словно ловкий фигурист, делает он на паркете пируэты вокруг ошеломленной Лизы.
— Ну как ты? — спрашиваю я Георга. — Не расстраивайся. Здесь — маммон, а у тебя — чувство. Несколько дней назад я тоже получил полезные уроки на этот счет. И даже от тебя — притом самым пикантным образом. Скажи, как удалось Лизе сегодня утром выбраться из твоей комнаты?
— Да с трудом. Ризенфельд решил использовать контору в качестве наблюдательного пункта. Он решил наблюдать за ее окном. Я думал, что отпугну его, если открою, кто такая Лиза. Ничего не помогло. Он мужественно перенес это. Наконец мне удалось на несколько минут утащить его в кухню, чтобы напоить кофе. Тут Лиза и выскользнула. Когда Ризенфельд вернулся в контору и снова занялся разведкой, она уже благосклонно улыбалась ему из своего окна.
— Она была в кимоно с аистами?
— Нет, с мельницами.
Я смотрю на него. Он кивает.
— Обменяли на маленькое надгробие. Это было необходимо. Во всяком случае, Ризенфельд с поклонами крикнул ей через улицу, что приглашает ее и нас сегодня вечером в «Красную мельницу».
— На это он не решился бы, если бы она еще называлась «де ла Тур».
— Он пригласил ее очень почтительно. Лиза согласилась. Она подумала, что это нам поможет в деловом смысле.
— И ты тоже так считаешь?
— Ну да, — весело отозвался Георг. Ризенфельд и Лиза возвращаются после танца. Ризенфельд вспотел. Лиза свежа, как монастырская лилия. К моему величайшему изумлению, я вдруг вижу в глубине бара, между воздушными шарами, новую фигуру. Это Отто Бамбус. Он стоит среди ресторанной толчеи с несколько растерянным видом и так же здесь не к месту, как был бы не к месту Бодендик. Потом рядом с ним появляется рыжая шевелюра Вилли и откуда-то доносится командирский бас Рене де ла Тур:
— Бодмер, вольно.
Я прихожу в себя.
— Отто, — обращаюсь я к Бамбусу, — какой ветер тебя сюда занес?
— Я, — отвечает Вилли, — я хочу внести свой вклад в немецкую литературу. Отто скоро предстоит вернуться в деревню. Тогда у него будет время оттачивать стихи о греховности мира. Но сначала он должен хоть увидеть его.