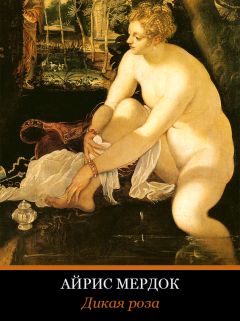— Не надо, — сказала она робко, почти жалобно, глядя на него снизу вверх. — Я делаю то, что должна. Я прикована к Рэндлу, понимаете, прикована.
Он протянул к ней руки, но снова их уронил. Ему хотелось схватить её и раскачать, хотелось упасть перед ней на пол и с криком зарыться головой в её колени. Он сказал тихо:
— Перестаньте, Энн.
— Вы должны уехать, Феликс, — сказала она тем же апатичным, неуверенным тоном. — Как вы теперь поступите?
Боль и гнев охватили Феликса. Он не мог ей поверить. На минуту захотелось её уязвить. Он сказал:
— Что ж, если бы я дал вам меня прогнать, пришлось бы, очевидно, устраиваться по-другому. Уж конечно, я не раскис бы. Уехал бы в Индию. Возможно, женился бы на ком-нибудь. Жениться мне нужно, и поскорей, не то совсем высохну. Но я хочу жениться на вас, черт возьми.
— А… Мари-Лора? — спросила Энн, шаг за шагом отступая от него к окну.
— Что Мари-Лора?
— Вы как-то обещали мне показать её портрет, — сказала Энн. Она вся сжалась, была напряженная, бледная.
Зачем она мучает себя и меня, думал Феликс.
— Да, — сказал он раздраженно. — Он у меня с собой. Желаете посмотреть? — Он порылся в кармане. Там все ещё лежало письмо Мари-Лоры, а при нем снимок, который он недавно сунул в тот же конверт. Он мельком взглянул на него и сам вздрогнул: умница, длинноносая, с узкими темными глазами и пышным каскадом почти черных волос. Мари-Лора. Он протянул снимок Энн.
Энн только глянула и расплакалась.
— О боже правый! — сказал Феликс и зашагал по комнате.
— Простите, — сказала она, стараясь сдержать слезы, и положила снимок на стол. — От этого я могла вас избавить.
— Слушайте, Энн, — сказал Феликс. — К черту Рэндла и Мари-Лору. Они здесь ни при чем. Мы оба устали, издергались. Гнать сюда в такую поздноту было сумасшествие. Идите спать, а утром мы ещё поговорим.
— Нет, нет, — сказала Энн и снова заплакала, — этого мне не вынести.
— Так что же вы, хотите, чтобы я уехал сейчас?
Она молча кивнула, уставившись на поднятый в руке платок, не вытирая медленно стекающих слез.
— Энн, — сказал Феликс, — вы меня любите?
Она ещё помолчала, потом, все так же глядя на платок, сказала хрипло:
— Да. Но, наверно, недостаточно. Или не так, как нужно.
Феликс весь застыл. Произнес сухо:
— Так бы и сказали. Это упрощает дело. Конечно, я уеду. Только надо было сказать раньше.
— Да вы не понимаете! — Она подняла голову как бы с отчаянной мольбой. — Вы не понимаете. Я вас люблю, видит бог, люблю. Но я не вижу выхода. Я до сих пор слишком связана с Рэндлом. Он слишком реален. Но я вас люблю. Ох, Феликс, мне так трудно, помогите мне! — Ее голос поднялся до жалобного вопля. Она разрыдалась, потом затихла, бессильно свесив руки, с мокрыми от слез щеками.
Феликс удрученно поглядел на нее:
— В вашей жалости я не нуждаюсь. И в ваших увертках тоже. Разумеется, я не буду вам навязываться. Обо мне не тревожьтесь. Я уеду в Индию. Больше вам досаждать не буду. Насчет Рэндла вы, по-моему, ошибаетесь. Но надо думать, вы вправе любить не меня, а его. Надо думать, вы вправе как угодно относиться… к вашему мужу.
Эти слова тяжело упали между ними, и Энн застонала. Она повторила едва слышно:
— Я вас люблю, Феликс.
Он сказал:
— Знаю. Все в порядке. Жалости мне не надо. — Он взял со стула пальто. Сунул в карман фотографию Мари-Лоры.
Минуту они смотрели друг на друга.
— Не уезжайте, — сказала Энн почти шепотом, сразу перестав плакать.
Феликс покачал головой.
— Вы были правы. Лучше не тянуть. Я страдать не любитель. Простите, что растревожил вас. — И пошел к двери.
Он яростно рванул руль темно-синего «мерседеса» и выехал к воротам, срезав угол лужайки. Слабый крик словно повис в воздухе у него за спиной. Он жал и жал на газ, пока машина под ним не завизжала. Уже тогда он знал, что это расплата за честь быть офицером и джентльменом.
Миранда, скорчившись на подоконнике, смотрела, как огни темно-синего «мерседеса» исчезают в подъездной аллее. Яркий свет, выхватывая из мрака зеленые деревья, все быстрее уходил под гору и вот пропал. Остался шум мотора, сперва нараставший по мере того, как машина набирала скорость, потом быстро умолкший. Наконец наступила полная тишина. Миранда прислушалась к тишине. Потом устало слезла с окна. Какой-то кусок жизни кончился. Какое-то дело сделано.
Она знала о том, что произошло в гостиной. Достаточно долго подслушивала, стоя за дверью. Теперь она словно задумалась, оставшись без дела, не зная, за что приняться. Потом задернула занавеску, заперла дверь и, опустившись на колени, пошарила под кроватью. Она вытащила большую деревянную шкатулку, предназначенную для книг, с крепким запором. Порылась в ящике, нашла ключ и открыла шкатулку. Вывалила содержимое на ковер и стала безучастно его перебирать.
Там было несколько писем и множество газетных вырезок и фотографий. Снимок Феликса в теннисном костюме, пятнадцатилетним мальчиком, — она выкрала его из альбома у Милдред. Несколько снимков Феликса в Грэйхеллоке, сделанных много лет назад на каком-то празднике; Феликс, Энн и Клер Свон, Феликс, Энн и Нэнси Боушот, Феликс и Энн. Был старый снимок — Феликс, Хью и на первом плане она сама, крошечная девчушка в белых оборках и бантах. Были снимки Феликса с Милдред, которые Энн в свое время получила в подарок, а Миранда стянула у неё из стола, и ещё парочка сокровищ, приобретенных таким же путем, — Феликс в парадном мундире. Но больше всех она любила другие, где Феликс был в обычной форме, Феликс на войне, Феликс обросший, Феликс при оружии, Феликс в пустыне, Феликс, склонившийся над картой в каком-то неведомом, безлюдном месте. Были тут и вырезки военных лет, включая корреспонденцию о том, как Феликс заслужил Военный крест под Анцио. И вырезки мирного времени, включая иллюстрации из «Тэтлера», — Феликс танцует с леди Мэра Ханвик, пьет шампанское с мисс Пенелопой Фенью. И ещё — «Полковник Феликс („Йойо“) Мичем с приятелем на скачках в Аскоте». Но самой большой драгоценностью были письма — письмо, которое он ей написал, когда она болела свинкой, письмо, которое он ей написал, когда она болела ветрянкой, открытка, когда-то присланная им из Нью-Йорка. Увы, переписка их кончилась, когда ей было семь лет.
Миранда любила Феликса Мичема всем сердцем с тех пор, как себя помнила. Она не могла бы сказать, когда именно её детское поклонение этому большому, приветливому полубогу перешло в жадную, ревнивую муку, с которой она теперь жила дни и ночи. Иногда ей казалось, что её чувство всегда было одинаково, всегда равно огромно, только в какую-то минуту к нему поднесли спичку. И теперь она корчилась в этом огне. Правда, она и в раннем детстве страдала, скучала по нем, ждала его и безумно радовалась каждому его появлению. Она жестоко страдала от того, что он интересовался Стивом, который тоже его боготворил, и сравнительно мало интересовался ею. Но в детстве она хотя бы не мечтала им завладеть. Настоящие мучения начались тогда, когда на каком-то почти не замеченном повороте пути она оказалась с Феликсом в одном мире. Ибо теперь, когда ничто их не разделяло, их разделяло все.
Миранда, конечно, чувствовала, что между Феликсом и её матерью что-то есть, какой-то трепет взаимного интереса и приязни. Ей казалось, что и это она знала всегда, но, когда её любовь вспыхнула ярким пламенем, обострились и её любопытство и наблюдательность. Наблюдать, впрочем, было почти нечего, и Миранда не предполагала больше того, что видела. Но и того, что она видела, было достаточно, и она смотрела во все глаза и страдала.
Миранда была уверена, что её тайна никому не известна. Когда её пятилетней девочкой спросили, за кого она хочет выйти замуж, она не задумываясь ответила: «За Феликса». Все тогда посмеялись, а потом забыли. Скрывать свою любовь было тем более необходимо, что от её зоркого и проницательного взгляда не укрылся катастрофический разлад между родителями; и, по мере того как события принимали все более угрожающий оборот, на её безнадежную мечту завладеть Феликсом как бы наросла другая, более выполнимая мечта — чтобы он по крайней мере не достался её матери. Раньше Миранда, вероятно, любила мать, но эта мать её детских лет была фигурой безличной и безликой. Все краски в мире её детства исходили от отца. Мать впервые обрела для неё индивидуальность уже как её соперница, и этому соперничеству Миранда посвятила себя со свирепой решительностью и не без успеха.
Она, конечно, не могла никому довериться, даже или, вернее, в особенности отцу, с которым всегда так дружила Ее привязанность к отцу была чем-то теплым, инстинктивным, бесформенным и бесконечно утешительным, хотя минутами и вызывала в ней чувство стыда, почти отвращения. Только на него изливалась её нежность, только для него она до сих пор оставалась мягкой, уютной, а с годами к этой мягкости примешалась воинствующая преданность, стремление защитить его всякий раз, как ей казалось — а в последнее время это бывало все чаще, — что ему грозит какая-то опасность. Что её любовь к Феликсу представляет для него опасность — это она поняла давно. Если он узнает, ему будет очень больно. И от этой боли она тоже его оберегала. На свои две любви она не смотрела как на соперниц. Они были столь же различны, как их предметы. Рэндл по сравнению с Феликсом казался ей бесконечно слабым, но именно поэтому был бесконечно ей дорог.