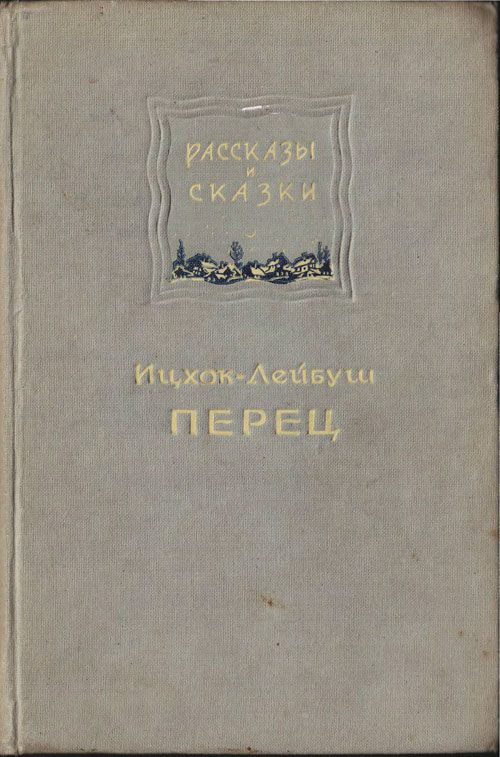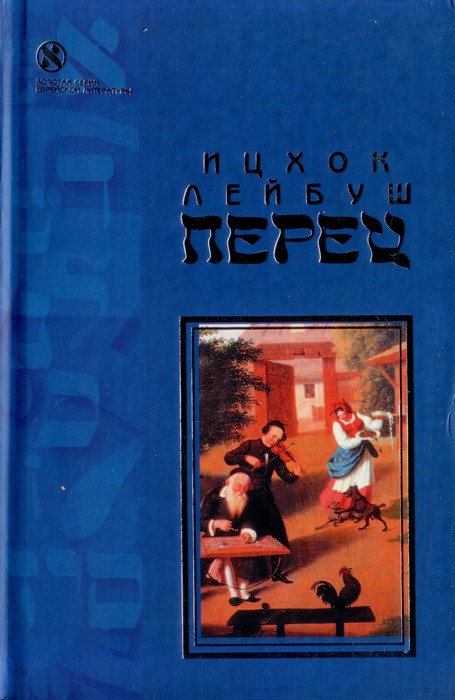class="p1">Походка у нее усталая, нетвердая. С усилием раскрывает она покрасневшие глаза, чтоб не заснуть на ходу. Лицо у нее красивое, но усталое, желтое и изможденное, губы красные, заметно недавно подкрашены.
Она открывает окно, наклоняется над восковой фигурой, разыскивая нужные ленты. Внезапно она, задумавшись, застывает.
Так стоит она с минуту, и все проходящие спрашивают себя:
— Кто ужаснее: та, что из воска, или другая, живая?
1915
Перевод с еврейского X. Бейлесон.
1
Какой-то богач, проезжая по улице, заметил прислонившегося к стене нищего. На дворе было сыро и холодно. Бог знает, сколько времени нищий уже простоял здесь.
У богача появилось чувство сострадания. Он достал из кармана гривенник, бросил его нищему.
Нищий поглядел туда, где упала монета, и не двинулся с места. Богач заметил это.
"Ему мало", — подумал он.
— Подлец!
2
Экипаж проехал. Нищий со стоном опустился на тротуар.
Сыро, холодно. Кости ноют и ломят, ноги точно окаменели.
Бог знает, как он сегодня доберется домой. Не слушаются его деревянные ноги.
Но и сидя, он никак не может достать монету. Он вытягивается весь, протягивает руку. Насилу, насилу дотянулся.
Он приближает монету к глазам. Фальшивая! И он вскрикивает:
— Подлец!
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг
На тисненной золотом софе в светлом шелковом платье лежит бледная молодая женщина.
Сквозь тяжелые занавеси на ее болезненно скривившиеся маленькие тонкие губки падает матовый луч света. В больших голубых глазах ее блестят слезы.
Ей тяжело… Не сбылись мечты ее.
Она жаждала любви, искала идеалов… "А он преподносит ей бриллианты, виллы…
Говорит ей о денежных делах… о подрядах…
Никто, никто не понимает ее, ни он — муж, ни его гости, ни ее гости…
А сердце тоскует, щемит! Чужд ему этот мир денег, серебра, золота, бриллиантов… Оно рвется к идеалам, куда-то… в неведомое…
Да, ей тяжело, хоть и не может она найти выражения для своих чувств.
Она протягивает белоснежную руку и притрагивается к звонку на столике у изголовья.
Появляется горничная.
— Чашку кофе, — приказывает молодая женщина.
Девушка исчезает и возвращается, неся на тяжелом серебряном подносе чашечку из китайского фарфора. Тонкий аромат душистого кофе смешивается с легким ароматом гиацинта в комнате.
Приближаясь к софе, горничная спотыкается о загнувшийся край турецкого ковра и падает.
Слышен глухой стук упавшего подноса и дребезжанье разбитой чашки.
— Дрянь! — вскакивая, кричит молодая женщина.
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг.
Чулочная фабрика.
Входит девушка с дюжиной готовых шерстяных чулок, подходит к старику-хозяину.
Он мельком взглядывает на товар и еле заметным движением руки отсылает ее к молодому хозяину.
Она идет туда.
Молодой берет в руки чулки — достаточно мягки. Потом кладет их на весы — вес правильный. Затем! берет мерку, измеряет длину, край, ступню — все в порядке.
Девушка облегченно вздыхает, протягивает руку за деньгами.
— Одну минуту! — говорит молодой хозяин. Он берет со стола лупу, вытирает ее и начинает осматривать работу.
Смотрит он долго, а потом говорит равнодушным, но твердым голосом:
— Несколько ниток рваных, три очка спущено. Три процента долой!
— Но… — пытается она защищаться.
— Никаких "но"! — прерывает он ее и дает ордер в кассу.
Открывается дверь, и появляется рыжий человек с ухмыляющимся лицом.
— Доброе утро!
— Здравствуйте, — отвечает старик-хозяин, — пожалуйста!
Рыжий подходит к старику, усаживается у стола.
— Мой сын! — с гордостью показывает старик на молодого. — Купец, — добавляет он, — да еще какой!
— Вот и хорошо! — отвечает рыжий, — купцу-то деньги и нужны.
— Деньги! — пожимает старик плечами.
— Пятнадцать тысяч наличными!
— Но одна нога короче, — вмешивается молодой с печальной улыбкой.
— Еле заметно! — говорит сват. — Но все же короче!
— Ну, — говорит старик, — невеста ведь не чулки! В лупу ее не рассматривают!..
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг
Устав глядеть на белый мрамор, ярко освещенные парадные улицы, я отвернулась и заглянула в один из окраинных переулков.
Из перекошенной хибарки вышел босой, плохо одетый мальчуган. Лохмотья еле держались на нем. Из полуразвалившегося домика напротив вышел другой мальчуган.
Не успели они подойти друг к другу, как я уже не могла различить, кто из них из какого дома. Оба истощенные, оба с пылающими глазками, оба дрожат от холода, а может быть, и от голода.
Слышу — говорят:
— Готов?
— А ты?
— Тоже!
— Ты ел?
— Нет… Отец не принес.
— А мой болен. Мать плачет…
— Пойдем?
— Лучше побежим… Холодно…
— Давай!
Они летят стремглав по направлению к городу.
Слежу за ними.
У одного из самых красивых домов города они остановились.
— Смотри! Это дом моего дяди! — с гордостью заявил один.
Другой указал на такой же дом на другой стороне улицы:
— А это дом моего дяди!
— Моему дяде привезли арабского жеребца за шестнадцать тысяч!
— A y моего есть карета и четверка рысаков. Настоящие львы!
— У моего, может, тысяча деревень!
— А у моего, может, сто городов!
— Глупец! У моего дяди вся мебель золотая!
— Осел! У моего она вся бриллиантовая!
— А у моей тети такие духи, что в носу щекочет!
— Подумаешь! Моя тетя каждый день ходит в театр!
— А мой дядя каждую ночь играет в карты! Ага!
Они долго препирались, до того, что чуть не вцепились друг другу в волосы.
Один из них все же вскоре отстал.
— Холодно, — сказал он, весь дрожа.
— А я страшно голоден, — сказал второй, — так и ноет! Позвони к твоему дяде…
— Что ты? — испуганно ответил тот. — Он приказал швейцару ноги мне перебить, если я зайду…
— Мой дядя тоже! — повторил другой. Оба они печально опустили головы.
— Пойдем?
— Лучше побежим…
И по дороге:
— Завтра ночью опять…
— Да… побежим. Я подам знак… Запою петухом.
— А я в ответ замяукаю кошкой.
— Хорошо….
Оба исчезают.
1915
Перевод с еврейского С. Ан-ский.
Три певчих птички перебывали в доме, и всех их, одну за другой, прикончил кот.
Это был не простой, не заурядный кот. Он имел возвышенную, богобоязненную душу, ходил в беленькой шубке, и в глазах его отсвечивало само голубое небо.
Это был поистине благочестивый кот. Десять раз на день совершал он омовения, а трапезы свои он справлял скромненько и тихо, где-нибудь в сторонке, в уголку…
В течение дня он перекусывал чем приходилось, довольствовался чем-нибудь молочным. И только когда наступала ночь, он разрешал себе мясную пищу — кусочек