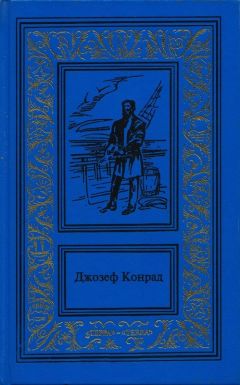Эти коттеджи имели одну общую стену: железная решетка разделяла их палисадники, а в глубине сада был деревянный забор. Мисс Бэсси Карвил разрешено было развешивать на нем для просушки скатерти, женские тряпки, передники.
— Дерево от этого подгнивает, милая мрак Бэсси, — бывало, кротко замечал капитан, стоя по эту сторону забора, всякий раз как она пользовалась своей привилегией.
Бэсси была высокая девушка, забор — низкий, и она могла положить на него локти. Руки у нее были полные, белые, и только пальцы и кисти рук краснели от стирки. Она молча, выжидающе глядела на лендлорда своего, отца, как будто что-то знала, чего-то ждала и желала.
— Дерево подгнивает, — повторял капитан Хэгберд, — Это единственная ваша привычка, какая говорит об отсутствии бережливости. Почему бы вам не повесить веревку для белья на заднем дворике?
На это мисс Карвил ничего не отвечала, она только отрицательно покачивала головой. На крохотном дворике за ее коттеджем было несколько грядок, обведенных бордюром из камней; на этих грядках она находила время разводить простенькие цветы, которые, словно в экзотическом климате, неудержимо тянулись вверх; а капитан Хэгберд, бодрый, прямой старик, одетый с ног до головы в непромокаемую парусину, стоя по другую сторону забора, по колени уходил в буйно разросшуюся сорную траву. Материя, неуклюже-жесткая, в которую он обычно облекался, — «временно», как бормотал он всегда в ответ на замечания по поводу его костюма, — делала его похожим на грубую гранитную статую, высившуюся в дебрях площадью с бильярдную. У этого каменного человека было красивое красное лицо, блуждающие голубые глаза и большая белая борода, доходящая до пояса. Эта борода, насколько известно было жителям Колбрука, никогда не подстригалась.
Семь лет назад, в ответ на шутливую попытку местного остряка цирюльника заполучить клиента, он серьезно сообщил:
— Пожалуй, в будущем месяце…
Цирюльник сидел с наглым видом в распивочной «Нового трактира» близ гавани, а капитан зашел туда купить унцию табаку. Из носового платка, торчавшего из-за обшлага, капитан Хэгберд извлек три полупенни, заплатил за свою покупку и вышел. Когда дверь за ним захлопнулась, цирюльник расхохотался:
— Скоро и старик и молодой пожалуют ко мне бриться! Всем будет работа — и портному, и цирюльнику, и гробовщику. Великие времена наступают для Колбрука, что верно, то верно! Раньше он, бывало, говорил: «На будущей неделе», теперь говорит: «Через месяц», а скоро скажет, должно быть: «К весне».
Заметив незнакомца, с усмешкой прислушивавшегося к его словам, цирюльник, бесцеремонно вытянув ноги, объяснял, что этот забавный старикашка Хэгберд, бывший шкипер каботажного плавания, ждет возвращения своего сына. Мальчика, вероятно, выжили из дому; он ушел в море, и с тех пор о нем не слыхали. Может быть, он давным-давно спит на дне морском. Три года назад старик примчался в Колбрук; он недавно похоронил жену и потому носил черный суконный костюм; из вагона третьего класса для курящих он выскочил с такой быстротой, словно черт гнался за ним по пятам, а привело его сюда всего-навсего какое-то письмо, — быть может, надувательское. Какой-то шутник написал ему о некоем моряке, носившем фамилию Хэгберд; моряк этот якобы ухаживал за одной девушкой в Колбруке или где-то здесь, по соседству.
— Забавно, не правда ли?
Старик, разыскивая Гарри Хэгберда, давал объявления в лондонских газетах, предлагая вознаграждение за всякое более или менее правдоподобное указание; И цирюльник с саркастической усмешкой начинал рассказывать, как этот незнакомец в трауре обследовал всю местность: разъезжал в повозке, ходил пешком, всех посвящал в свою тайну; он обошел все трактиры и пивные, останавливал на дороге людей и задавал им вопросы, заглядывал даже в канавы. Сначала он был сильно возбужден, затем продолжал вести поиски с какой-то медлительной настойчивостью, все более и более вяло. Он даже не мог вам рассказать, каков на вид его сын. Моряк был, видимо, один из тех двух, что сбежали с судна, груженого лесом; видели, как он волочился за какой-то девушкой. А старик описывал мальчика лет четырнадцати — «смышленый, бойкий мальчик». Люди в ответ на это только улыбались, а он смущенно потирал лоб и крадучись уходил с обиженным видом. Конечно, он никого не нашел, даже на след не напал и никаких более или менее достоверных указаний не получил, но почему-то не в силах был оторваться от Колбрука.
— Должно быть, от такого разочарования, случившегося вскоре после смерти жены, он на этом пунктике и помешался, — продолжал цирюльник тоном великого знатока человеческих душ.
Спустя некоторое время старик прекратил активные поиски. Сын его, видимо, уехал, и капитан решил поселиться здесь и ждать. Ведь однажды сын заглянул именно в Колбрук, а не на родину; очевидно, как думал старик, у него были на то какие-то важные причины, и они-то и побудят его вернуться сюда.
— Ха-ха-ха!.. Ну конечно, в Колбрук. Куда же еще? Единственное место во всем Соединенном королевстве, где вы можете найти своих давно пропавших сыновей! Вот он и продал свой старый дом в Колестере и переехал сюда. Такая уж дурь на него напала. А я вот не свихнусь, если один из моих парнишек удерет. У меня их восемь штук.
Такая стойкость цирюльника вызывала взрывы смеха, потрясавшие всю распивочную.
Странно, однако, — признавался он с откровенностью; здравомыслящего человека, — как заразительны такие вещи! Вот, например, его цирюльня находилась неподалеку от гавани, и всякий раз, когда какой-нибудь моряк заходил туда постричься или побриться, цирюльник, видя незнакомое лицо, невольно думал: «А ну как это сын старого Хэгберда!» Он сам над собой посмеивался. Это была заразительная мания. Он помнил то время, когда весь город был охвачен ею. Но цирюльник надеялся на выздоровление старика. Он думал воздействовать на него разумным поддразниванием. Он следил за успешным ходом лечения. Через неделю… через месяц… через год! Если старый шкипер отложил дату возвращения сына на будущий год, можно надеяться, что он вовсе перестанет говорить об этом. Во всех остальных отношениях он был совершенно нормален; следовательно, рано или поздно, наступит полное выздоровление.
Таково было твердое убеждение цирюльника; никто ему не противоречил. Волосы его успели с тех пор поседеть, а борода капитана Хэгберда совсем побелела и величественно ниспадала на парусиновый костюм. Этот костюм он сам сшил себе втихомолку и в одно прекрасное утро неожиданно в него облачился. Не дальше как накануне вечером его видели в траурном суконном костюме, и парусина, сшитая просмоленными нитками, произвела сенсацию на Хай-стрит: лавочники бросились к дверям, жители Колбрука, хватая шапки, выбегали на улицу. Такой переполох как будто сначала его удивил, а затем испугал; но на все удивленные вопросы он робко и уклончиво отвечал:
— Это временно.
Сенсация с тех пор давным-давно позабылась; а самого капитана Хэгберда, правда, не забыли, но внимание на него обращать перестали, так как видели его ежедневно: даже солнце, и то не удостаивается внимания, если не заставляет почувствовать слишком сильно свой жар. В капитане Хэгберде незаметно было никаких признаков недуга; он ходил твердой походкой — забавная и любопытная фигура в парусиновом костюме; только глаза его, пожалуй, блуждали больше, чем раньше. Он уже не казался возбужденным и настороженным; в нем чувствовались робость и смущение, словно он подозревал в себе какую-то странность, что-то слегка его компрометирующее, и, однако, не в силах был выяснить, в чем тут дело.
Теперь он неохотно разговаривал с горожанами. Он заслужил репутацию отчаянного скряги. В лавках, жалостно что-то бормоча, он после долгих колебаний покупал жалкие обрезки мяса и не допускал никаких намеков на свой костюм.
Случилось так, как предсказывал цирюльник. Все думали, что старик уже излечился от своей болезни — перестал надеяться. Одна только мисс Бэсси Карвил знала, почему он не упоминает о возвращении своего сына: теперь он ждал его не «на будущей неделе», не «в будущем месяце», даже не «через год». Он ждал его «завтра».
Задний двор и палисадник сблизили их; здесь он говорил с ней по-отечески, разумно и наставительно, слегка повелительным тоном. Она пользовалась безграничным его доверием, и он частенько дружески ей подмигивал. Мисс Карвил дошла до того, что стала ждать этих подмигиваний. Сначала они приводили ее в смущение: бедняга был помешан. Потом она научилась отвечать на них смехом: он был незлой человек. Наконец она почувствовала какое-то странное приятное волнение и стала слегка краснеть. Подмигивал он отнюдь не вульгарно. Его тонкое красное лицо с красиво изогнутым носом было не лишено благородства, а когда он разговаривал с ней, взгляд его был более спокойным и разумным. Красивый, бодрый, рассудительный человек с белой бородой. О возрасте его вы не думали. Он утверждал, что его сын с самого раннего детства был удивительно похож на него.