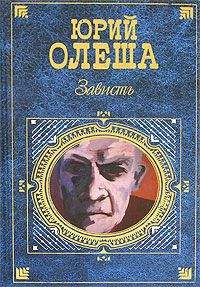– Нет, нет, не сновидения! Стал бы я этим заниматься, вызывать сны с их бессмыслицей, просто балаганом. Не сновидения, а самое настоящее проникновение в материальный мир прошлого.
– А будущего?
– Из чего же я могу создать будущее? Прошлое оставило отблески, их можно уловить, сконцентрировать, а будущее…
Он улыбнулся:
– Будущее еще на солнце!
Он все возвращался к теме света. Материальный мир создан светом. Называйте это как хотите – квантами, атомами, – но это свет, это солнце.
– Все создано солнцем? – спросил я.
– Конечно!
Ему можно было поверить, хотя бы потому, что в конце концов он говорил школьные вещи. Ему просто нельзя было не поверить, поскольку он…
Поскольку он держал в руках маленький стеклянный прибор – пожалуй, стеклянный столбик толщиной в карандаш – вот-вот, больше всего это походило на стеклянный карандаш! Он и вертел им, как вертят карандашом, только от верчения этого карандаша вдруг стал слышаться как бы отдаленный смех не то в лодке, не то в саду…
В этом карандаше нет-нет да и появлялось нечто вроде золотой иголки, нет-нет да и начинал вдруг слышаться отдаленный не то где-то в саду, не то в лодке смех.
– Кто-то вспоминает свою молодость, – сказал он.
Он остановил карандаш, чуть повернул крохотный купол на нем, и все увидели, как девушка, сама чем-то похожая на лодку…
Необыкновенно медленно, как никогда на моей памяти, разворачивается в этом году весна. То зеленое, что виднеется сегодня между домами, из-за домов, еще далеко не то, что называется первой зеленью. Его еще нет, этого зеленого, оно скорее угадывается. Не слышно, например, запаха, характерного для этих дней. Может быть, впрочем, мир не устанавливает со мною контакта? Может быть, с годами теряется возможность этого контакта? Может быть, школьник слышит этот запах – вот этот школьник, который, как я когда-то, хочет со всей добросовестностью развязаться с заботами, чтобы ни одного дня весны не прожить невнимательно.
Надо выбраться за город. Поеду на какую-нибудь станцию, сойду и буду стоять. Установится ли контакт? Когда-то я хотел есть природу, тереться щекой о ствол дерева, сдирая кожу до крови. Когда-то я, впервые после перерыва оказавшись за городом, взбежал на невысокий холм и упал, чувствуя восторг, в траву лицом – в ножи травы, которые меня ранили, плакал от сознания близости к земле, разговаривал с землей.
Поднявшись, я увидел деревенское кладбище с фанерными крестами, с фотографическими карточками – все в каких-то вьющихся лиловых побегах и с темным дубом, который склонялся над ним и шумел.
Ходишь по городу… Сентябрь, но чисто, спокойно, жарко. И, как ни ходишь, не принимает тебя мир. Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж? В Венецию? В Краков? Нет, в закат. Вот и теперь иду, уже понимая, что в закат прийти нельзя. Очевидно, это была мечта о бессмертии.
Может быть, если б не было эффекта заката, вся история была бы иной. Кто-то правильно сказал мне, что человечество изобрело бы что-нибудь другое – лишь бы мучиться.
Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личиков, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот… Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке – видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду – замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой?
Ее нет! Где она? Она плывет под водой… Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что, кажется, утирается после купания всем небом!
Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути!
Эти кусты объемисты, с дюжину детей нужно соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения – ветки, ветки, ветки…
Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле?
Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное – деревья. Может быть, это и правда так – деревья? Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте, была освещена закатом, причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко-зеленой… Этот ствол уходил косо, как уходит лестница, в небо. Эта хвоя – венец – темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг.
Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильнюса, который я увидел вдруг с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же на холме, все так же откинувшись…
Береза действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных надоевших березах, чем о настоящих.
Некоторые из них очень высоки, объемисты. Белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные поперечные взрезы на коре ствола похожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листы. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали…
Надо написать книгу о прощании с миром.
Я очень часто ухожу очень далеко, один. И тем не менее связь моя с некоей станцией не нарушается. Значит, я сам в себе живу? Как же так? Неужели я ношу в себе весь заряд жизни? Неужели весь провод во мне? И весь аккумулятор? Это я – вся моя жизнь? Этого не может быть. Очевидно, при каждом моем шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешная среда, очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре, и движет мною и является моей вечно заряжающей станцией.
Оно проступает в виде мутно светящегося круга сквозь неплотную, но почти непроницаемую преграду туч – всего лишь проступает, и смотрите, все же видны на камне тени. Еле различимо, но все же я вижу на тротуаре свою тень, тень ворот и главное – даже тень каких-то свисающих с дерева весенних сережек.
Что же это – солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни сделал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, – я всегда был на кончике луча.