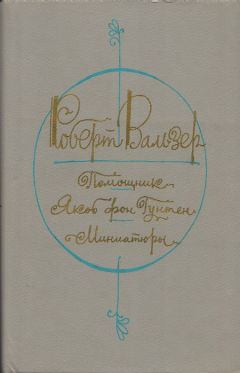Люблю шум и непрестанное движение большого города. То, что всегда ускользает, внушает респект. Какой-нибудь вор, к примеру, наблюдая без устали копошащихся людей, непременно должен подумать о том, какой он негодяй, и кто знает, может, созерцание деятельности радостной и неугнетенной еще спасет его заблудшую душу. Хвастун может стать скромнее и серьезнее, увидев, сколько энергии употреблено на полезное дело, а какой-нибудь неуклюжий пентюх, заприметив ладные движения стольких людей, поймет, как глупо он выглядит в своей самодовольной и закоснелой ограниченности движений. Большой город воспитывает и образовывает, причем на живых примерах, не то что учебник с его сухими правилами. Город не допускает никакой профессорской позы, и это льстит так же как отталкивает и угнетает надменное всезнайство. И потом, здесь столько всего, что поддерживает, поощряет и помогает. Сразу и не назовешь. Вообще, трудно назвать все хорошее и достойное. Здесь благодарен и самой простой жизни, в суете, на бегу тихо благодаришь ее за то, что есть еще зачем бежать и суетиться. Кому некуда девать время, тот не ведает, что оно означает, тот закоренелый неблагодарный дурак. В большом городе всякий мальчик на побегушках знает цену времени и никакой разносчик газет не станет его понапрасну терять. А потом, сколько вокруг чудесного, как сон, сколько живописного, поэтического! Люди спешат и спешкой своей заражают друг друга. Спешат ведь не зря, это подзадоривает, подхлестывает бодрость духа. Приостановишься, раскрыв рот, а мимо тебя мчатся сотни людей, мельтешат сотни лиц, каждое из которых как укор тебе в том, что ты ленишься и упускаешь время. Спешке подвластны здесь все, потому что все убеждены, что нужно что-то успеть, чего-то добиться. Пульс жизни здесь бьется сильнее. Страдания и раны здесь глубже, радость долговременнее и мощнее, потому что заслужена и оправдана нелегким и унылым трудом. А в палисадниках здесь тишь, запустение, как в самых укромных уголках английского парка. Рядом же бурлит и клокочет деловая жизнь — с таким остервенением, будто нет и не было никогда на свете ни красот природы, ни грез. Грохочут железнодорожные поезда, сотрясая мосты. По вечерам зажигаются огни сказочно богатых и изящных витрин, а людские потоки, волны и змеи фланируют мимо прельстительных достижений индустрии. Да, все это кажется мне значительным и достойным. В этой толчее-суете делаешься богаче. Руки, ноги, грудь словно наливаются силой, когда стараешься благополучно и ловко пробраться сквозь этот людской лабиринт. Утром закипает новая жизнь, а вечером все отдается жарким и вечно новым объятьям небывалых мечтаний. В этом много поэзии. Фройляйн Беньямента, конечно, поставила бы меня на место, если б могла прочесть, что я здесь пишу. Не говоря уже о Краусе, который не видит разницы между городом и деревней. Он обращает внимание только, во-первых, на людей, во-вторых, на обязанности и, в-третьих, на те сбережения, которые собирается отсылать матери. Краус часто пишет домой. У него самые простые человеческие понятия. Лихорадка большого города со всеми ее иллюзорными обещаниями оставляет его равнодушным. Как правильно скроена эта человеческая душа — нежная и крепкая.
Наконец-то фотографии мои готовы. Они в самом деле удачны, я взираю на мир с большой энергией и упорством. Краус хочет немного позлить меня, он говорит, я похож на еврея. Наконец-то, наконец он смеется. «Краус, — говорю я, — ведь евреи-то тоже люди». Мы затеваем глубокомысленный и увлекательный спор о достоинствах и недостатках евреев. Диву даешься, как точно он обо всем судит. «У евреев все деньги», — говорит он. Я соглашаюсь и говорю: «Только деньги делают людей евреями. Бедный еврей — это не еврей, а богатые христиане, черт бы их драл, хуже всяких евреев». Он соглашается. Наконец-то, наконец он меня одобряет. Но вот он уж опять сердится и говорит мне самым серьезным тоном: «Ты бы болтал поменьше. Ну что это за рассуждения о евреях и христианах. Чушь все это. Есть только никудышные и стоящие люди, вот и все. А как ты думаешь, Якоб, к каким людям относишься ты?» Вот тут-то и начинается самый разговор. О, Краус любит поговорить со мной, я знаю. Добрая, чуткая душа. Не хочет только в этом признаться. Как мне нравятся люди, которые не любят ни в чем себе признаваться. У Крауса есть характер, этого нельзя не почувствовать. Автобиографию я все же написал, но потом снова порвал. Фройляйн Беньямента призвала меня вчера быть внимательнее и послушнее. В моих представлениях я само послушание, сама внимательность, но, странно, на деле так не получается. Мыслю я добродетельно, но вот когда доходит до того, чтобы претворить сии добродетели в жизнь… Что тогда? Да уж, тогда все оказывается по-другому, и куда деваются добрые намерения. Я еще и невежлив к тому же. Преклоняюсь перед рыцарственной галантностью, но вот когда надо подбежать и открыть дверь перед учительницей, кто тогда остается сидеть за столом болван болваном? А кто вскакивает, как борзая, являя саму учтивость? Краус, конечно. Краус — рыцарь с головы до ног. В средних веках он был бы на месте, и можно лишь пожалеть, что ему не подвернулся какой-нибудь двенадцатый век. Он сама верность, сама услужливость, сама беззаветная и не лезущая на глаза предупредительность. Женщин он не оценивает, он их просто чтит. Кто молниеносно, как белка, кидается наземь и во мгновение ока подает фройляйн то, что она уронила? Кто стремглав летит за покупками? Кто ходит за учительницей по рынку с корзинкой? Кто вылизывает пол на лестнице и на кухне, не дожидаясь распоряжений? Кто, делая все это, не ждет благодарности? Кто так великолепно устроен, что находит радость в трате себя? Известно кто. Иной раз мне хочется, чтобы Краус побил меня. Но такие люди, как он, разве станут драться? Ведь Краус желает только справедливости и добра. Я совсем не преувеличиваю. Он просто не знает дурных намерений. В глазах его столько доброты, что страшно. Что делать такому человеку в этом падшем мире, построенном на лжи, лицемерии и притворстве? Стоит только взглянуть на Крауса, чтобы понять, насколько безнадежно положение скромности в этом мире.
Я продал часы, чтобы купить табаку. Без часов я могу прожить, а без табака нет, как ни прискорбно. Надо где-то раздобыть денег, а не то останусь вскоре без чистого белья. Жить не могу без чистых воротничков. Счастье человека не зависит от таких вещей, но по-своему и зависит. Счастье? Нет. Но нужно держаться приличий. Только в чистоте может быть счастье. Впрочем, я несу всякий вздор. Как я ненавижу правильные определения. Сегодня наша учительница заплакала. Почему? Посреди урока из глаз ее вдруг хлынули слезы. Это странным образом волнует меня. Глаз теперь с нее не спущу. Мне доставляет удовольствие прислушиваться к упорствующему безмолвию. Я напрягаю внимание, и это скрашивает жизнь, потому что без напряженного внимания вовсе нет жизни. У фройляйн Беньямента какое-то горе, это ясно, и горе, должно быть, немалое, ведь наша учительница умеет владеть собой. Мне нужны деньги. Кстати, автобиографию я написал. Вот что получилось.
Автобиография
Нижеподписавшийся Якоб фон Гунтен, сын законных родителей, родившийся тогда-то и выросший там-то, поступил учеником в пансион Беньяменты, чтобы обрести необходимые для слуги навыки. Вышеозначенный не питает иллюзий относительно будущей жизни. Он желает, чтобы с ним обращались строго, потому что ему хочется знать, что испытывает человек, когда его угнетают. Якоб фон Гунтен обещает не много, но он намерен держаться благопристойного поведения. Он происходит из древнего рода. В прежние времена фон Гунтены воевали, но теперь военный пыл их угас и они поставляют тайных советников и коммерсантов, а самый юный отпрыск рода, о коем идет здесь речь, вознамерился и вовсе отказаться от надменных привычек. Он желает быть воспитанным самой жизнью, а не унаследованными правилами хорошего тона. Правда, он горд, так как не может отказаться от врожденных своих свойств, но он гордость понимает совершенно по-новому, соответственно времени, в котором живет. Он надеется, что окажется человеком современным, то есть неглупым, полезным, пригодным к службе, но он лжет, он не только надеется, он в этом уверен. Он упрям, ибо в нем живет еще необузданный дух его предков, но он просит указывать ему на проявления его упрямства, а если это не поможет, то и наказывать его, отчего, он уверен, будет толк. Вообще, к нему нужен умелый подход. Нижеподписавшийся полагает, что способен найти себя на любом месте, поэтому ему безразлично, что его заставят делать, он глубоко убежден, что любая тщательно исполненная работа даст ему больше чести, чем биение баклуш в родительском доме. Впрочем, никто из фон Гунтенов никогда баклуши не бил. Если предки покорно нижеподписавшегося поднимали рыцарский меч, то и их потомок действует традиционно, страстно желая приносить на любом поприще пользу. Его скромность не знает границ, если только поощрена его воля, а его служебное рвение подстегнуто честолюбием, заставляющим его с презрением относиться к неуместным и ложным представлениям о чести. Дома упомянутый поколотил однажды своего учителя истории, почтенного доктора Мерца, о каковом позорном деянии теперь сожалеет. Он не стремится ни к чему иному, как посредством самых суровых терний сломить высокомерие и надменность, которые, возможно, еще посещают его душу. Он немногословен и никогда не выдаст то, что ему доверят. Он не верит ни в ад, ни в рай. Благоволение того, кто наймет его, станет для него небесным утешением, а недовольство его господина испепелит его адским огнем, но он убежден, что он сам и услуги его будут приняты благосклонно. Твердое убеждение в этом придает ему мужество оставаться тем, кто он есть.