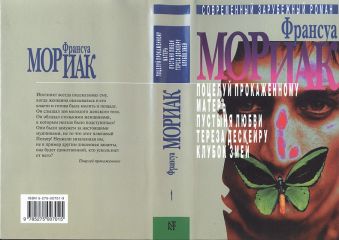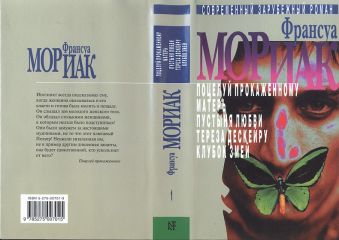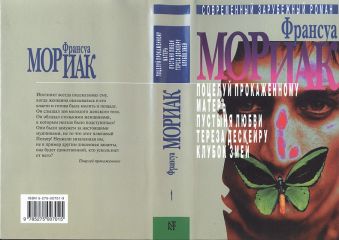Еще долго после этого дня и в Сен-Клере, и в городе Б. люди, толкуя об этой свадьбе Гамаша[1] (больше сотни фермеров и слуг пировали под дубами), всегда вспоминали, что новобрачная — «хоть и не красавица, но зато само обаяние» — всем показалась в этот день некрасивой, даже страшной. «Она сама на себя не походила, совсем другая стала... Люди видели только то, что внешность ее изменилась, и винили в этом белое подвенечное платье, которое было ей не к лицу, винили жару, — они не распознали, что видят ее истинное лицо.
В день этой полудеревенской, полугосподской свадьбы вечером группы гостей, расцвеченные яркими платьями девушек, преградили дорогу автомобилю новобрачных и проводили их шумными приветствиями. На дороге, усеянной цветами белой акации, они обгоняли выписывавшие зигзаги тележки, в которых лошадьми правили подвыпившие крестьяне. Вспомнив о той ночи, что последовала за свадьбой, Тереза шепчет:
— Это было ужасно... — Потом спохватывается. — Да нет... не так-то ужасно...
А разве она очень страдала во время их путешествия на итальянские озера? Она играла в сложную игру «не выдавай себя». Жениха обмануть нетрудно, но мужа!.. Кто угодно может произносить лживые слова, но ложь тела требует иной науки. Не всякому удастся изображать желание, наслаждение, блаженную усталость. Тереза сумела приучить свое тело к такому притворству и черпала в этом горькую усладу. В мире неведомых ей ощущений, в который мужчина принуждал ее проникнуть, она с помощью воображения допускала, что там и для нее, возможно, есть счастье, но какое оно? Перед ней словно был пейзаж, затянутый густой сеткой дождя, и она старалась представить себе, каким он был бы при ярком солнце, — вот так Тереза открывала, что такое страсть.
И как легко было обмануть Бернара, ее спутника с пустым взглядом, всегда обеспокоенного тем, что номера картин, выставленных в музеях, не соответствуют указаниям путеводителей, довольного тем, что он в кратчайший срок увидел все, что полагалось посмотреть. Он весь уходил в наслаждение, как те очаровательные поросята, на которых забавно смотреть, когда они, хрюкая от удовольствия, бросаются к корыту. («Я стала этим корытом», — думает Тереза.) У него был такой же, как у них, торопливый, деловой, серьезный вид и такая же методичность. «А разве так можно? Разве это хорошо?» — осмеливалась иногда спросить изумленная Тереза. Он, смеясь, успокаивал ее. Где он научился классифицировать все, что касалось плотских утех, различать ласки, дозволенные порядочному человеку, от повадок садиста? Тут он никогда не проявлял ни малейшего колебания. Однажды вечером в Париже, где они остановились на обратном пути, Бернар демонстративно покинул Мюзик-Холл, возмущаясь спектаклем, который там давали: «И подумать только, что иностранцы видят эту мерзость! Какой позор! А ведь по таким зрелищам они судят о нас!..» Терезу поразило, что этот стыдливый человек через какой-нибудь час заставит ее терпеть в темноте его мучительные изобретения.
«Бедняга Бернар, а ведь он не хуже других. Но вожделение превращает человека, приближающегося к женщине, в чудовище, совсем на этого человека не похожее. Ничто так не отдаляет нас от нашего сообщника, как его чувственное исступление. Я видела, как Бернар утопает в пучине похоти, и вся замирала, как будто этот сумасшедший, этот эпилептик при малейшем моем движении мог удушить меня. Чаще всего уже на грани последнего наслаждения он вдруг замечал, что остается тут одинок; мрачное неистовство прерывалось: Бернар отступал, чувствуя, что я, будто отброшенная волной на берег, лежу, стиснув зубы, холодная, ледяная».
От Анны пришло только одно письмо — она очень не любила писать, но каким-то чудом каждое ее слово было приятно Терезе: ведь в письмах мы выражаем не столько подлинные наши чувства, сколько те, какие должны испытывать, чтобы доставить удовольствие адресату. Анна жаловалась, что она не может больше ездить на велосипеде в сторону Вильмежа — теперь там живет молодой Азеведо, она лишь издали видела его шезлонг, стоявший в папоротниках, — чахоточные внушают ей ужас.
Тереза несколько раз перечитывала это письмо и не ждала от Анны других вестей, поэтому она была очень удивлена, когда па другой день после прерванного посещения Мюзик-Холла в обычный час доставки почты увидела на трех конвертах почерк Анны де ла Трав. Отделы «до востребования» разных почтамтов переправили супругам Дескейру в Париж целую пачку писем, так как путешественники не останавливались в некоторых городах, торопясь «вернуться в свое гнездышко», как говорил Бернар, а в действительности по той причине, что они уже не могли постоянно быть вместе: муж изнывал от скуки без своих охотничьих ружей, без своих собак, без деревенской харчевни, где подавали «удивительно приятное кисленькое винцо, какого нигде не найдешь»; а тут еще эта женщина, такая насмешливая, холодная, явно не испытывающая никакой радости на супружеском ложе и не желающая говорить об интересных вещах!.. А Терезе хотелось поскорее вернуться в Сен-Клер — так осужденному, томящемуся в пересыльной тюрьме, любопытно бывает посмотреть на тот остров, куда его сослали на вечную каторгу. Тереза с трудом разобрала на каждом из трех конвертов дату, обозначенную почтовым штемпелем, и уже хотела было распечатать самое давнее письмо, как вдруг Бернар издал глухое восклицание и крикнул ей что-то — слов она не расслышала: окно было отворено, и как раз на этом перекрестке автобусы с ревом меняли скорость. Бернар отложил бритву и углубился в чтение письма матери. Тереза, как сейчас, видит его летнюю рубашку с короткими рукавами, обнаженные мускулистые руки, до странности белые, и внезапно побагровевшие шею и лицо. В это июльское утро уже стояла удушливая жара, солнце, сиявшее в закопченном небе, подчеркивало, как грязны видневшиеся перед балконом фасады старых домов. Бернар подошел к Терезе и крикнул:
— Ну это уж просто безобразие! Хороша твоя любимица! Ну и Анна! Кто бы мог подумать, что моя сестрица выкинет такую штуку!..
И в ответ на вопрошающий взгляд Терезы сказал:
— Представь себе, влюбилась в молодого Азеведо! Да, влюбилась в этого чахоточного юнца, для которого родители сделали пристройку в Вильмежа... И, кажется, дело тут серьезное... Она заявляет, что дождется своего совершеннолетия и выйдет за возлюбленного... Мама пишет, что девчонка совсем сошла с ума. Только бы Дегилемы не узнали. А то молодой Дегилем, чего доброго, пойдет на попятный и не посватается! Ты получила письма? Это от нее? Ну, сейчас все узнаем. Распечатай поскорее.
— Хочу прочесть все три письма по порядку. И к тому же я не собираюсь показывать их тебе.
Даже тут сказался ее характер — вечно она все усложняет. Но, в общем, важно только одно — чтобы она образумила девчонку.
— Мои родители рассчитывают на тебя, ты ведь имеешь огромное влияние на Анну. Да-да, не спорь. И они ждут тебя как свою спасительницу.
Пока Тереза одевалась, он пошел отправить телеграмму и заказать два билета на Южный экспресс. Терезе он посоветовал начать укладываться.
— Да почему ты не читаешь письма этой дурочки?
— Жду, когда ты уйдешь.
Еще долго после того, как он затворил за собой дверь, Тереза лежала на диване и курила, уставясь глазами в золотые, но уже потускневшие буквы большой вывески, укрепленной на балконе противоположного дома. Наконец она разорвала первый конверт. Нет-нет, не может быть, чтобы это писала ее маленькая глупенькая Анна, воспитанница монастырского пансиона, ограниченная девочка! Разве могли из-под ее пера вырваться такие пламенные слова! Нет, не могла из ее черствого сердца — а ведь Тереза догадывалась, что у Анны черствое сердце — излиться эта Песнь Песней, эта исполненная счастья жалоба женщины, захваченной страстью, умирающей от восторга при первом любовном прикосновении.
...Когда я его встретила, то просто не могла поверить, что это он: ведь он бегал, играя с собакой, он весело кричал. Нельзя было и вообразить, что это тяжелобольной человек. Конечно, он вовсе не болен, родные просто стараются поберечь его, потому что в их семье были трагические случаи. Он даже не кажется хрупким, а скорее худеньким. И знаешь, он привык, чтобы его баловали, лелеяли. Ты меня не узнала бы: ведь это я приношу и накидываю ему на плечи пелерину, когда спадает жара...»
Если бы Бернар вернулся в эту минуту и вошел в номер, он удивился бы, увидев свою жену, сидевшую на постели, — это была какая-то незнакомка, странная, не похожая на Терезу женщина. Она нервно бросила сигарету, разорвала второй конверт.
...Я буду ждать сколько понадобится, меня не запугают никакими запретами, моя любовь их и не чувствует. Меня теперь не выпускают из Сен-Клера, но ведь Аржелуз не так-то от него далеко, и мы с Жаном прекрасно можем встречаться. Помнишь нашу с тобой охотничью хижинку? Выходит, что это ты, дорогая, заранее выбрала место, где мне довелось испытать такое счастье. Только ты, пожалуйста, не подумай, будто мы делаем что-то дурное. Он такой деликатный. Ты и понятия не имеешь о юношах, подобных ему. Он много учился, много читал (так же, как ты), но у молодого человека это не раздражает меня, и мне ни разу не приходило желания поддразнить его. Ах, как бы я хотела быть такой же ученой, как ты! Душенька моя, как ты, должно быть, наслаждаешься теперь, когда изведала блаженство, мне еще незнакомое, и как же должно быть велико это блаженство, если я вся трепещу, едва приближаюсь к нему! Когда мы с Жаном встречаемся в охотничьей хижине (той самой, в которую ты приносила с собой наш полдник), когда он обнимает меня и рука его замирает на моей груди, а я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце (он называет это "последней дозволенной лаской"), меня охватывает чувство счастья, такого осязаемого, что, право, я, кажется, могла бы потрогать его. И все же мне думается, что за пределами этой радости есть что-то, какая-то иная радость. И когда Жан, весь бледный, уходит, воспоминание о наших ласках, ожидание того, что будет завтра, опьяняет меня, и я бываю глуха к жалобам, мольбам и оскорблениям моих близких, — ведь эти жалкие люди не знают и никогда не знали... Прости меня, дорогая, я говорю тебе о счастье, как будто и ты еще не познала его; но ведь я совсем новичок по сравнению с тобой, и я уверена, что ты будешь за нас с Жаном — против наших мучителей».