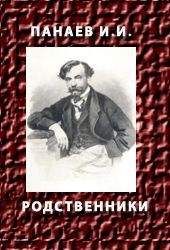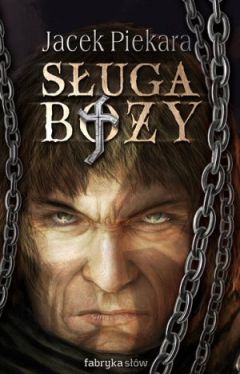- Я с ними провел лучшие дни моей жизни, - говорил Иван Федорыч своему питомцу, - ты увидишь, Gregoire, что это за люди, как я духовно связан с ними! Какие святые отношения всегда существовали между нами!.. Ты увидишь их! - И у Ивана
Федорыча дрожали слезы на глазах, когда он говорил это.
Но Ивану Федорычу готовилось разочарование. В продолжение нескольких лет, проведенных им в деревне, все страшно изменилось в его кружке. Романтизм уже давно перестал быть в ходу, о нем отзывались друзья его с едкими насмешками, с презрением; на романтиков смотрели они уже как на людей отсталых и пошлых. О Жан-Поле,
Гофмане, Тике, к великой скорби Ивана Федорыча, и помину не было. Всякая наклонность к мистическому преследовалась беспощадно. Порывания туда (dahin), различные праздные сетования и страдания были отброшены. Все, напротив, кричали о примирении с действительностию, о труде и деле (хотя, как и прежде того, никто ничего не делал). Шиллер низвергнут был с пьедестала; всеобъемлющий Гете обожествлен, последнее слово для человечества отыскано в Гегеле, и решено, что далее его человеческая мысль уже не может идти… У Ивана Федорыча закружилась голова от всех этих новостей, и не раз пробовал он вступаться за своих любимых писателей, за прелесть созерцательной жизни, которую почитал неотъемлемою принадлежностию деликатных натур, за готические храмы и за мистическую поэзию, но с ним даже не спорили, ему отвечали только ироническими улыбками. Друзья его после первого свидания с ним решили втайне, что он не способен ни к какому развитию и по ограниченности натуры должен навеки погрязнуть в романтизме.
Итак, эти святые отношения, которые некогда связывали Ивана Федорыча с его друзьями и о которых он с таким чувством говорил Григорью Алексеичу, - уже не существовали. Иван Федорыч понял это и начал хандрить и страдать, беспрестанно вспоминая о своем прошедшем с болезненным наслаждением.
Между тем Григорий Алексеич, первые месяцы по приезде в Москву принявшийся за ученье с большим жаром, успел уже утомиться, отложил намерение вступить в университет - и ходил только на лекции к некоторым профессорам, которые ему особенно нравились. День, в который Иван Федорыч представил его своим друзьям в качестве молодого человека, подающего надежды, - этот день был торжественный для Григорья
Алексеича. У него замерло сердце, когда он в первый раз вступал в этот кружок… И все в нем показалось ему необыкновенным: на челе каждого из присутствующих он читал высшее призвание и с жадностию ловил каждое слово. Правда, многое из слышанного им было ему темно и непонятно, но это-то и нравилось ему. В простоте и незлобии своего молодого сердца он полагал, что вся глубина человеческой мудрости заключается именно в темном и непонятном.
Григорий Алексеич, с своей стороны, произвел на друзей своего благодетеля очень приятное впечатление и принят был под их покровительство. Способности его к развитию признаны, нужно было только, как говорили, освободить его от влияния Ивана Федорыча, который своим болезненным романтическим настроением уже успел сделать ему много вреда. Под руководством своих новых наставников Григорий Алексеич начинал мало- помалу посвящаться в глубокие таинства науки, искусства и жизни… Он принялся изучать и переводить Гете и даже попробовал заглянуть в Гегеля. Первый и огромный шаг к будущим успехам был уже сделан. С этой минуты авторитет Ивана Федорыча утратил для него все значение. На своего благодетеля он посматривал уже с ирониею, как на человека отставшего, и исподтишка иногда подсмеивался над ним довольно остроумно.
Благодеяния Ивана Федорыча сделались ему тягостны. Григорий Алексеич ощутил в себе потребность выйти из-под его опеки и начать жизнь самостоятельную. К тому же с некоторого времени Иван Федорыч жаловался на своего управляющего, который мало высылал ему денег. Надобно было на что-нибудь решиться. Григорий Алексеич крепко призадумался о своем положении. Он понимал, что, вечно пребывая в сфере отвлеченных умствований и созерцаний, легко можно умереть с голоду, что необходимо ему избрать какой-нибудь род жизни, начать трудиться на каком-нибудь поприще для приобретения себе независимости и насущного куска хлеба. Григорью Алексеичу, как и всякому русскому дворянину, предстояли на выбор два обширные, блестящие поприща для деятельности: воинское и гражданское… Но, увы! герой мой не был приготовлен ни для того, ни для другого. Пойти в офицеры он не мог, потому что не ощущал в себе достаточно геройского духа и воинских наклонностей; сделаться чиновником не хотел, потому что для этого нужно было прежде приобресть чин, а для приобретения чина выдержать университетский экзамен. Что же оставалось ему? В качестве недоросля из дворян заняться литературой? И в самом деле, Григорий Алексеич с удовольствием остановился на этой мечте…
Таким образом, успокоя себя, Григорий Алексеич стал лелеять и развивать в себе эту соблазнительную мечту, продолжая жить на счет своего благодетеля. Но Иван
Федорыч вдруг и совершенно против собственного желания должен был оставить Москву.
Он получил письмо от своего управляющего, который, ссылаясь: 1) на плохие урожаи, 2) на дорогое содержание обширной дворни и 3) на необходимые и значительные издержки, как-то: на поправку двух ветряных и одной водяной мельниц и на перестройку служб, пришедших в крайнюю ветхость, - объявлял наотрез, что впредь денег вовсе высылать не может.
Горько было прощание Ивана Федорыча с Григорьем Алексеичем.
- Может быть, мы видимся с тобою, Gregoire, в последний раз, - говорил он, едва удерживая слезы, - я, кажется, уж никогда не ворочусь сюда; но участь твоя будет обеспечена. Не тревожься - я отвечаю за это. У тебя… у тебя еще много надежд впереди, ты еще многое можешь сделать, а мой путь уже кончен…
Иван Федорыч глубоко вздохнул.
- Одинокий, я должен погрязнуть в деревенской глуши, без дела и без мысли, окруженный не людьми, а медведями. Дела мои с каждым годом все более и более расстроиваются. Меня кругом обманывают, теперь я все вижу ясно… Я всегда мечтал о том, чтобы улучшить участь моих крестьян: это была любимая мечта моя! А между тем они, говорят, разорены - и разорены в глазах моих! И я при всем моем желании помочь им
- не могу, потому что не знаю как… Вот где наше трагическое, Gregoire!.. Вот где! Воля наша всегда в противоречии с делом. Все мы пустые и ничтожные фантазеры, не способные ни к чему.
Иван Федорыч обнял Григорья Алексеича и горько заплакал.
- Не забывай меня, пиши ко мне! - произнес он едва внятным голосом.
Григорий Алексеич также плакал.
- Пиши же ко мне, - повторил Иван Федорыч, - бога ради, пиши, хоть изредка, хотя по нескольку строчек пиши… Прощай, Gregoire… прощай… - Иван Федорыч бросился в тарантас, лошади двинулись. Он в последний раз выглянул из тарантаса, махнул Григорью
Алексеичу рукою и упал на подушки.
Долго провожал его глазами Григорий Алексеич, покуда тарантас совсем скрылся из глаз, покуда колокольчик совсем замер в отдалении… И все стихло кругом Григорья
Алексеича. На широкой песчаной дороге, расстилавшейся перед ним, не было ни души человеческой; ни один листок не шевелился на тощих деревьях, окаймлявших дорогу; заря медленно замирала, все предметы облекались тенью и сумраком, и стало грустно
Григорью Алексеичу…
"Странно, - подумал он, возвращаясь в Москву, - я не воображал, чтобы мне было так тяжело расставаться с этим человеком!"
В первый раз Григорий Алексеич должен был завестись собственным хозяйством.
Половину из занятой на дорогу суммы Иван Федорыч оставил ему на его издержки и, кроме того, обещал при первой возможности выслать ему из деревни еще денег. Григорий
Алексеич не надеялся, однако, на будущие блага. С похвальным благоразумием рассуждал он, как ему необходимо стараться всячески умерить свои расходы и не дозволять себе ни малейшей прихоти. Он полагал даже, что самые лишения, как победа над самим собою, будут ему приятны. Но денег, оставленных ему благодетелем его, с присоединением небольшой суммы, присланной ему от матери, которыми, по его расчету, можно было прожить по крайней мере месяцев пять, к удивлению его самого, едва достало ему на два месяца, и между тем Григорий Алексеич, точно, не был мотом: он вовсе не имел отчаянной удали тех русских людей, которые, заломя шапку набекрень, живут себе припеваючи на авось и ставят последний грош ребром, никогда уж потом не жалея о нем.
Григорий Алексеич был скуп по натуре и вместе расточителен по слабости воли.
Малейшая борьба с самим собою приводила его в отчаяние. Соблазнясь какою-нибудь дорогою и совсем ненужною для него вещью и приобретя ее (а это случалось с ним беспрестанно), он внутренне бранил себя и терзался раскаянием. И эта вещь, за минуту соблазнившая его, делалась ему до того противной, что он тотчас же готов был отдать ее за полцены. Начиная сознавать собственное бессилие, он в то же время всеми мерами старался оправдывать себя перед самим собою и складывать вину на других…