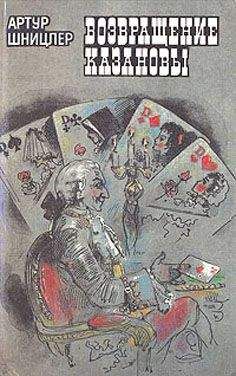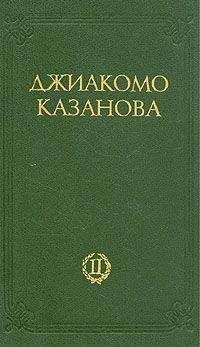— Вам, по-видимому, захотелось, высокочтимый синьор Казанова (казалось, она умышленно не назвала его «шевалье»), показать мне изысканный образец вашего всемирно прославленного красноречия, за что я вам искренне благодарна. Но вы, конечно, знаете не хуже меня, что кабала не только не имеет ничего общего с математикой, но как раз грешит против подлинной сущности математики и по отношению к ней занимает такое же положение, какое путаная или лживая болтовня софистов занимает по отношению к ясным и возвышенным учениям Платона и Аристотеля.
— Все же, — поспешно возразил Казанова, — вы должны будете со мною согласиться, прекрасная и ученая Марколина, что софистов отнюдь нельзя считать столь презренными глупцами, как можно было бы заключить из вашего не в меру сурового приговора. Так, — приведем пример из современной жизни, — господина Вольтера, по всему его образу мыслей и способу их излагать, несомненно, можно назвать образцом софиста, и, несмотря на это, никому не придет в голову, даже мне, объявившему себя его решительным противником, — не стану отрицать, что я именно теперь пишу против него памфлет, — даже мне не придет в голову отказать ему в исключительном даровании. Замечу кстати, что меня нисколько не подкупила подчеркнутая предупредительность, которую господин Вольтер любезно проявил ко мне во время моего визита в Ферне десять лет назад.
Марколина усмехнулась.
— Очень мило с вашей стороны, шевалье, что вы изволите так мягко судить о величайшем уме нашего века.
— О великом, даже величайшем? — воскликнул Казанова. — Называть его так мне кажется непозволительным уже потому, что, при всей своей гениальности, он безбожник, — вернее, даже богоотступник. А богоотступник никак не может быть великим умом.
— На мой взгляд, шевалье, в этом нет никакого противоречия. Но вы прежде всего должны доказать, что Вольтера можно назвать богоотступником.
Тут Казанова очутился в своей стихии. В первой главе своего памфлета он привел множество выдержек из произведений Вольтера, главным образом из пресловутой «Девственницы»[4], которые казались ему особенно вескими доказательствами неверия Вольтера; благодаря своей превосходной памяти, Казанова теперь цитировал их слово в слово наряду со своими контраргументами. Но в лице Марколины он нашел противницу, мало уступавшую ему в знаниях и остроте ума и, кроме того, намного превосходившую его, если не в велеречивости, то в подлинном искусстве и ясности речи. Места, которые Казанова пытался представить как доказательства иронии, скептицизма и безбожия Вольтера, Марколина умело и находчиво истолковывала как столь же многочисленные свидетельства научного и писательского гения этого француза, а также его неутомимого и пылкого стремления к правде и, не смущаясь, высказала мысль, что сомнение, ирония и даже неверие, если им сопутствуют столь обширные познания, столь безусловная честность и столь высокое мужество, должны быть более угодны богу, чем смирение верующих, за которым большей частью кроется не что иное, как неспособность логически мыслить и даже нередко — чему есть немало примеров — трусость и лицемерие.
Казанова слушал ее с возрастающим изумлением. Он видел свое бессилие переубедить Марколину и все яснее и яснее понимал, что душевным порывам, которые он чувствовал в последние годы и привык считать религиозностью, грозила опасность исчезнуть без следа, и потому поспешил воспользоваться общепринятым мнением, что высказанные Марколиной взгляды не только угрожают власти церкви, но и могут подорвать самые основы государства, и тут же ловко перескочил на область политики, где благодаря своему опыту и знакомству со светом скорее мог доказать Марколине свое несомненное превосходство. Но если она и уступала ему в знании людей и понимании придворно-дипломатических интриг и не могла опровергнуть отдельных доводов Казановы даже тогда, когда была склонна не доверять его словам, — то из ее замечаний с неоспоримой ясностью вытекало, что она не питает особого почтения ни к земным владыкам, ни к существующим формам государственной власти и убеждена, что корыстолюбие и властолюбие и в малых и в великих делах не столько управляют миром, сколько вносят в него сумятицу. Казанове до сего времени редко приходилось наблюдать такое свободомыслие у женщины, а у девушки, которой не было еще и двадцати лет, он вообще никогда его не встречал; и он не без грусти вспомнил, что в минувшие дни, которые были лучше нынешних, его собственная мысль, с несколько самодовольной и сознательной смелостью, шла теми же путями, на которые, как он видел, вступила теперь Марколина, казалось, даже не сознавая своей смелости. И, увлеченный своеобычностью ее образа мыслей и их выражения, Казанова почти забыл, что идет рядом с молодым, прекрасным и пленительным созданием, и это было тем более удивительно, что он находился с нею совершенно один в тенистой аллее, довольно далеко от дома. И вдруг, прервав себя на полуслове, Марколина с живостью, как будто даже с радостью, воскликнула:
— А вот и дядя!...
И Казанова, словно желая наверстать упущенное, прошептал:
— Как жаль! С каким удовольствием я бы еще часами беседовал с вами, Марколина!
Он сам почувствовал, как при этих словах глаза его вновь загораются желанием, и Марколина, которая, несмотря на всю свою насмешливость, держала себя с ним почти доверчиво во время всего разговора, приняла замкнутый вид, и ее взгляд выразил прежнюю настороженность, даже прежнее отвращение, уже однажды так глубоко уязвившее Казанову сегодня.
«Неужели я и впрямь могу внушать такое отвращение? — со страхом спросил он себя. И тут же ответил: — Нет, дело не в этом; просто Марколина — не женщина. Она ученый, философ, пожалуй, даже чудо природы, только не женщина».
Однако при этом он знал, что лишь старается сам себя обмануть, утешить, спасти и что все его старания напрасны.
Перед ними стоял Оливо.
— Ну, разве это не была счастливая мысль, — обратился он к Марколине, — пригласить наконец к нам в дом гостя, с которым можно поговорить о таких высоких предметах, к каким тебя, вероятно, приохотили твои болонские профессора?
— Вряд ли даже среди них, дорогой дядя, найдется хоть один, — отвечала Марколина, — который бы осмелился вызвать на поединок самого Вольтера!
— Вот как, Вольтера? А шевалье вызвал его? — воскликнул Оливо, не поняв.
— Ваша остроумная племянница, Оливо, имеет в виду памфлет, которым я занят в последнее время. Так, любительский опыт в часы досуга. Прежде меня поглощали более важные дела.
Пропустив мимо ушей это замечание, Марколина сказала:
— Стало прохладно, и вам будет приятно прогуляться. До свидания!
Она слегка кивнула им и побежала по лужайка к дому.
Казанова удержался и не посмотрел ей вслед; он спросил:
— Синьора Амалия пойдет с нами?
— Нет, милейший шевалье, у нее много всяких дел по дому, и в этот час она обычно дает урок девочкам.
— Какая хорошая хозяйка и добрая мать! Вам можно позавидовать, Оливо!
— Да, я и сам каждый день себе это повторяю, — ответил Оливо, и на глазах у него показались слезы.
Они пошли вдоль торцовой стены дома. Окно Марколины было по-прежнему открыто. В глубине комнаты, погруженной в полумрак, белело легкое, как вуаль, платье. Они вышли по широкой каштановой аллее на дорогу, которая уже совсем погрузилась в тень, и стали медленно подниматься в гору вдоль садовой ограды. Там, где она поворачивала под прямым углом, начинались виноградники. Между высокими лозами, на которых висели тяжелые гроздья черно-синих ягод, Оливо повел своего гостя к вершине холма и с видом глубокого удовлетворения указал на свой дом, лежавший теперь довольно глубоко внизу. Казанове померещилось, будто в окне башни то мелькает, то вновь исчезает силуэт женщины.
Солнце клонилось к закату, но было еще очень жарко. По щекам Оливо градом катился пот, а у Казановы лоб оставался совершенно сухим. Постепенно удаляясь, они стали теперь спускаться и вышли на тучное поле. От одного оливкового дерева к другому тянулись виноградные лозы, между рядами деревьев покачивались высокие желтые колосья.
— Дары солнца в тысячеликом образе, — проникновенно произнес Казанова.
Оливо с еще большими подробностями, чем прежде, принялся рассказывать о том, как мало-помалу ему удалось приобрести это прекрасное именье и как обильный урожай плодов и злаков в течение нескольких лет сделал его зажиточным, даже богатым человеком. Но Казанова был занят своими мыслями и, лишь изредка подхватывая слово, сказанное Оливо, вставлял какой-нибудь вежливый вопрос, чтобы доказать ему свое внимание. Только когда Оливо, болтая о всевозможных вещах, заговорил о своей семье и, наконец, о Марколине, Казанова насторожился. Но он узнал немногим более того, что было ему уже известно. Еще ребенком, живя в доме отца, врача в Болонье, который приходился Оливо сводным братом и рано овдовел, она изумляла родных своими способностями, пробудившимися в самом юном возрасте, поэтому все давно привыкли к ее необычным наклонностям. Несколько лет назад умер ее отец, и с тех пор она живет в семье известного профессора Болонского университета, того самого Морганьи, который возымел дерзкое намерение сделать из своей ученицы крупного ученого. Летом она всегда гостит у дяди. Она отказала нескольким претендентам на ее руку — болонскому купцу, живущему по соседству землевладельцу, а совсем недавно — лейтенанту Лоренци и, по-видимому, действительно хочет посвятить себя только служению науке. Пока Оливо рассказывал обо всем этом, Казанова чувствовал, как безмерно растет в нем желание, и, сознавая, насколько оно безнадежно и безрассудно, был близок к отчаянию.