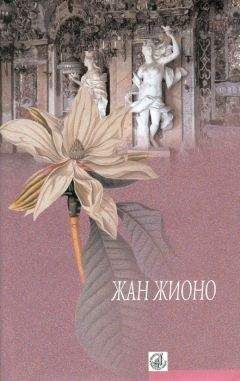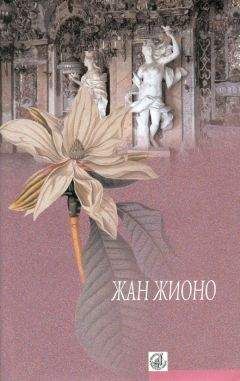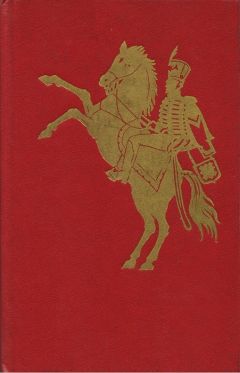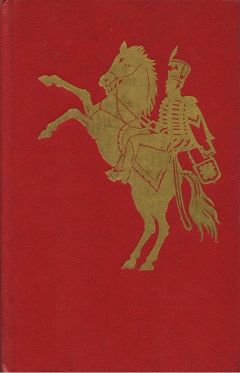— Скоро вечер, — сказал он, — может, хоть немного попрохладнеет. Бедняга Альсид.
— Он уже совсем почернел, — сказала одна женщина.
— Правда, — ответил кюре, — и это совершенно удивительно.
Он посмотрел на чудовищного вида труп. Но приближающийся вечер вселял в него надежду. «Хоть бы немного передохнуть, — думал он, — хоть бы стало чем дышать». Надежда, что скоро будет чем дышать, давала ему силы без содрогания смотреть на этот рот, в чудовищном оскале обнаживший до самых десен остатки гнилых зубов.
О приближении вечера говорила всего лишь легкая голубизна на востоке. Однако этого было достаточно, чтобы потускнели гроздья солнечных бликов, пробивавшихся сквозь листву платанов на улице Лафайет и усеивавших кружками и полумесяцами тротуар около плетеного стула, на котором сидел морской санитарный врач. Он подумал, что начинают собираться облака, и громко пробормотал, что привлекло к нему внимание посетителей, сидевших рядом с ним на террасе кафе «Герцог д'Омаль»: «Черт побери, неужто будет дождь?» Однако он питал уважение к своему званию и, пересчитав блюдца, сказал себе: «Несмотря на семь рюмок абсента, я все-таки вижу, что это не туча, а просто наступает вечер». И спокойно сказал вслух: «Это вечер, но я и не такое видел». Он хотел сказать, что решился на разговор с адмиралом. «Главное — это внятно произнести «смертоносные миазмы на борту „Мельпомены"». А дальше я ему уже все выложу. Я не стану говорить ни о первичных симптомах, ни о продромальном периоде. Я скажу ему то, что думаю. Ну а если он заартачится, то я ему скажу напрямик: „Я говорю «да», вы говорите «нет». Что ж, есть способ выяснить, кто прав: вскрытие"». Он подозвал официанта и спросил, который час. Была половина седьмого. Санитарный врач поднялся, постоял, широко расставив ноги, готовясь выдержать бой и с абсентом, и с адмиралом, и со всем тем, что привело его на террасу кафе «Герцог д'Омаль». Он пошел узенькими улочками. Его радовало приближение вечера — о чем свидетельствовало еще немного поголубевшее небо — и эта прекрасная идея вскрытия, подсказанная ему наступлением вечера и той надеждой, которая лилась с теряющего свой ослепительный блеск неба. Великолепное, неопровержимое, как он полагал, доказательство, которое не приходило ему в голову в отупляющей дневной жаре, под этим пронзительным, ослепляющим и удушающим светом, от которого стучало в висках и перед глазами возникали молниеносные трагические видения, как бывает, когда ныряешь на большую глубину в зеленоватой воде. Было по-прежнему жарко, по-прежнему нужно было перешагивать через сточные канавы и желтоватые струйки, вытекающие из отхожих мест, но этот смягчившийся свет позволял немного прийти в себя. Он подумал: «Как акробат, — и продолжил: — С адмиралом все решено, но ведь я знаю свое ремесло. Мне доводилось вскрывать и китайцев, и индусов, и яванцев, и гватемальцев.- (Это было не совсем точно: в качестве лечащего врача он плавал только в восточных морях. Он никогда не был в Гватемале, но ему нравилось это слово, а несколько лишних рюмок абсента рождали в нем преувеличенное представление о сфере его деятельности.) — А главное, противно, что нужно спорить, объяснять, а ведь в случае с матросом с «Мельпомены» все объяснено и неопровержимо доказано. В таких случаях, как сегодня, главное — это как следует их ошарашить, чтобы им не оставалось ничего другого, как сказать: «Ну что ж, делайте все необходимое». Им нужно подать на блюдечке все готовенькое и с математическими доказательствами причинно-следственных связей, весьма, впрочем, неприятных и для начальства, и для общества, связей, например, между далеким дыханием могучих рек и той силой, которая одним ударом может унести сто тысяч жизней. Гораздо легче объяснять, имея на руках доказательства: „Смотрите: вы видите липкий экссудат в плевре? Левый желудочек сокращен, правый набит черными сгустками, цианоз пищевода, эпителий отслаивается, кишечник наполнен массой, которую я сравнил бы, чтобы сделать вам понятнее, господин адмирал, медицинские термины, с рисовым отваром или молоком. Давайте же, давайте, господин адмирал, — вас ведь нельзя беспокоить во время сиесты — проникнем дальше в тело 1,70 метра на 40 этого марсового матроса с «Мельпомены», умершего в полдень, когда вы, господин адмирал, смаковали кофе мокко, а вам стелили постель; умершего в полдень, обветренного шквалами в дельте Инда и в долине Ганга, которая бывает настоящей пневматической пушкой. Стенки кишечника окрашены в ярко-розовый цвет, на отдельных железах твердые выступы в виде просяного или даже конопляного семени; на коже бляшки с зернистой поверхностью, распухшие фолликулы, сливающиеся в струпья, набухшие сосуды селезенки, зеленоватое содержимое в клапане подвздошной кишки, печень в темных прожилках — и все это в марсовом матросе с «Мельпомены» габаритом 1,70 метра на 40, который набит, как горшочек в духовке. Я всего лишь заурядный лекарь, господин адмирал, но могу вас уверить, что тут подложена бомба, способная в два счета взорвать целое королевство, настоящая граната для кровопускания"».
Он услышал звук колокольчика: это священник шел к умирающему с последним причастием. Врач остановился и отдал ему честь. Дежурный гардемарин в адмиралтействе на этот раз был более любезен. Впрочем, этот молодой офицер был явно чем-то встревожен. Лицо у него осунулось, а когда он взялся за ручку двери, санитарный врач, заметив, что кожа на пальцах у него сморщенная и лиловатого оттенка, подумал: «Ну вот, еще один!» Гардемарин открыл дверь и объявил: «Санитарный врач Рено».
В тот самый момент, когда санитарный врач входил в кабинет адмирала, в поселке Ла-Валетта кюре подошел к молодой женщине и тронул ее за руку: «Госпожа маркиза, не к чему больше здесь оставаться, эти женщины сделают все, что нужно. Я уже поговорил с Абдоном насчет гроба». Маркиза окропила труп святой водой и вышла вместе с кюре. Наступил вечер. Но ничего не изменилось. Стояла все та же тошнотворная жара.
— Мне кажется, — сказала маркиза, — что это моя вина. Я послала ее за дынями в самую жару. Ее хватил солнечный удар вот на этой каменной лестнице, где солнце и раскаленные камни жгут с такой убийственной силой. Я это почувствовала, сбегая по лестнице. Это я виновата в ее смерти, месье кюре.
— Не думаю, — ответил кюре. — Я могу успокоить госпожу маркизу в этом отношении, рискуя, однако, напугать ее другим, но я знаю, как мучительны угрызения совести. Я знаю, что для такой бесстрашной души, как госпожа маркиза, легче перенести мучения иного рода. Сегодня днем еще три человека умерли таким же образом: вдова Женестана Барб, Валли Жозеф и Оннора Брюно. И почти одновременно. Я был у них. Я осмелился прийти в замок, госпожа маркиза, чтобы поставить вас в известность.
Она задрожала от озноба.
— Бежим, — сказал перепуганный кюре, — это вас взбодрит и согреет.
Анджело тем временем добрался до вершины холма и наконец-то увидел, что до вечера уже недалеко. С этой возвышенности перед ним открывалось пространство протяженностью в добрых пять сотен квадратных лье, от Альп до горных массивов, тянущихся вдоль побережья. За исключением уходящих в небо остроконечных вершин и чернеющих далеко на юге скал, все еще было окутано липким, знойным туманом. Но свет был уже не таким яростным, и, несмотря на рези в желудке и на ощущение жжения в пояснице, Анджело на мгновение остановился, чтобы убедиться, что наступает вечер. Действительно, это был вечер. Серый, с желтоватым отливом, будто солома в конюшне.
Анджело пустил лошадь рысью и вскоре очутился в долине. Три поворота, и вот перед ними небольшая равнина, а в конце ее сероватое, прилепившееся на склоне горы селение, окруженное камнями и серыми карликовыми дубами.
К восьми часам он прибыл в Банон, заказал два литра бургундского, фунт сахара, горсть перца и чашу для пунша. Это был богатый горный отель, где никого не удивляли экстравагантности людей, живущих в одиночестве. Хозяин невозмутимо смотрел, как Анджело, в одной рубашке, готовит свою смесь и кладет туда нарезанный кубиками домашний хлеб. У изнемогавшего от жажды Анджело текли слюнки, пока он смешивал в чаше для пунша вино, сахар, перец и хлеб. Он с жадностью проглотил хлеб, размоченный в вине с сахаром и перцем. Рези в желудке утихали. Было ясно, что светящаяся, как раскаленные угли, ночь не принесет прохлады. Но по крайней мере она избавляла от наваждения света, такого яркого, что у Анджело все еще мелькали перед глазами белые сполохи. Он заказал еще две бутылки бургундского и выпил их, покуривая небольшую сигару. Ему было гораздо лучше. Однако, поднимаясь в свою комнату, он цеплялся за перила. Четыре бутылки бургундского давали себя знать. Он лег поперек кровати, якобы для того, чтобы видеть горсть крупных звезд, заполнявших просвет окна. Он так и заснул в этой позе, даже не сняв сапоги.