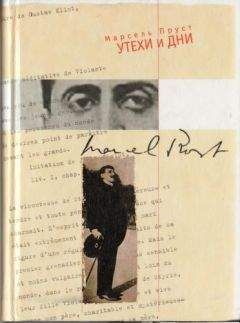Но случилось это иначе: герцогиня Оливиана приехала к нему в десять часов утра; небо низко придвинулось к земле и было грязным; шел проливной дождь; утомленный своей болезнью, уже всецело во власти более возвышенных мыслей, уже не ощущая прелести того, что раньше казалось ему наградой, очарованием и утонченным торжеством жизни, он попросил сказать герцогине, что слишком слаб и не может принять ее. Она настаивала, но он не принял ее. Он сделал это даже не из чувства долга; герцогиня уже не существовала для него. Смерть стремительно оборвала узы рабства, которых он так боялся несколько недель назад. Он пытался думать о ней, но эти воспоминания ничего не говорили ни его уму, ни фантазии и тщеславию, умолкнувшим навсегда. Однако приблизительно за неделю до смерти объявление бала у герцогини Богемской, где Пиа должна была танцевать котильон с уезжавшим назавтра в Данию Каструччо, с неукротимой силой разбудило его ревность. Он попросил привезти к нему Пию. Его невестка слабо воспротивилась этому; он решил, что ему хотят помешать видеться с ней, решил, что его преследуют, и рассердился; для того чтобы не огорчать его, за ней отправились немедленно.
Когда Пиа приехала, он был совершенно спокоен, но погружен в глубочайшую печаль. Он привлек ее к своей кровати и немедленно заговорил о бале герцогини Богемской. Он сказал ей:
— Мы не были родственниками, вы не будете носить траура по мне, но мне хочется, чтобы вы исполнили одну мою просьбу: обещайте мне, что вы не пойдете на этот бал.
Они смотрели друг другу в глаза, вкладывая в этот взгляд свои печальные и страстные души, не примиренные друг с другом даже смертью. Он понял, что она колеблется, горестно сжал губы и совсем тихо произнес:
— О! лучше не обещайте ничего! Не изменяйте слову, данному умирающему. Если вы не уверены в себе, лучше не обещать.
— Я не могу обещать вам этого, я не видела его в течение двух месяцев и, быть может, не увижу никогда; я буду безутешна навеки, если не буду на этом балу.
— Вы правы, ведь вы любите его, ведь я могу умереть… А вы еще в самом расцвете сил… Но вы исполните то немногое, о чем я вас попрошу: уйдите с этого бала пораньше, вычтите из вашего пребывания на нем тот короткий промежуток времени, который вам пришлось бы провести со мной для того, чтобы заглушить мои подозрения. Подумайте обо мне хоть немного! Хотя бы на несколько минут призовите к себе мою душу.
— Я не смею обещать вам это, бал продолжится так недолго. Даже оставаясь до конца, я едва успею его повидать. Я уделю воспоминанию о вас несколько минут каждого из последующих дней.
— О, вы не сможете этого сделать, вы забудете обо мне! Но если через год — увы! — а может быть и позже, под влиянием печальной книги, чьей-нибудь смерти или дождливого вечера, вы вспомните обо мне, — какую милость вы окажете мне этим! Я никогда, никогда не смогу больше вас видеть… разве только своим духовным взором; но для этого нужно, чтобы мы одновременно думали друг о друге. Я буду думать о вас непрестанно для того, чтобы моя душа была всегда открытой и готовой принять вас, когда бы вам ни захотелось в нее войти. Но как долго гостья заставит ждать себя? Цветы на моей могиле сгниют под потоками ноябрьских дождей, высохнут под лучами июньского солнца, а моя душа все еще будет стонать от нетерпения. О! я надеюсь, что когда-нибудь подаренная вам мною безделушка, годовщина моей смерти или ход ваших мыслей приведут вашу память к окрестностям моей любви. И тогда мне покажется, что я услышал вас и увидел, и к вашему приходу все вокруг расцветет как по волшебству. Думайте о мертвом. Но увы! разве я могу надеяться, что смерть и ваша серьезность сумеют сделать то, чего не смогли сделать и жизнь с ее страстями, и наши слезы, и наше веселье, и наши губы?
Вот сердце благородное разбилось!
Покойной ночи, принц! И тихо напевая,
Пусть ангелы баюкают тебя.
Шекспир.
ГамлетА жестокая лихорадка и бред не покидали виконта. Ему постелили постель в той огромной круглой комнате, где Алексис видел его в день своего рождения, когда ему исполнилось тринадцать лет — видел его еще таким веселым.
Отсюда больной мог, с одной стороны, созерцать море и мол, с другой — пастбища и леса. Время от времени он начинал говорить; но его слова не носили больше отпечатка тех возвышенных мыслей, которые словно просветлили его в течение последних недель. Он яростно проклинал какого-то невидимого человека, будто бы над ним издевавшегося, и повторял без конца, что он лучший из современных музыкантов и самый высокопоставленный из всех вельмож. Потом, внезапно успокаиваясь, он приказывал своему кучеру везти его на прогулку или седлать лошадей для охоты. Он просил почтовой бумаги для того, чтобы разослать приглашения всем монархам Европы на обед по случаю своего бракосочетания с сестрой герцога Пармского; в страхе перед тем, что он не может уплатить проигрыш, он схватывал лежавший на столе у кровати нож для разрезания книг и наводил его на себя, как револьвер. Он отправлял гонцов узнать, не умер ли тот полицейский, которого он якобы избил прошлой ночью, и, смеясь, говорил непристойности женщине; ее, как казалось ему, держал он за руку. Ангелы-хранители, которые зовутся Волей и Мыслью, уже покинули его и не могли заставить вернуться во мрак злых его гениев: низменные чувства и скверные воспоминания.
Спустя три дня, часов в пять, он очнулся как бы от плохого сна, за который не отвечаешь, хотя смутно его помнишь. Он спросил, были ли около него друзья и родные в течение тех часов, когда вскрылись самые низменные страсти его души, и попросил, если он снова начнет бредить — немедленно удалить из комнаты всех и не впускать обратно, пока он не придет в сознание. Он обвел глазами комнату и, улыбаясь, посмотрел на своего черного кота, который, забравшись на китайскую вазу, играл хризантемой и нюхал ее с ужимкой мима. Потом он попросил всех оставить комнату и долго беседовал со своим духовником. Однако он отказался от причастия, попросив доктора сказать, что его желудок уже не в состоянии вынести облатки. Через час он попросил передать невестке и Жану Галеасу, что они снова могут войти к нему, и, обращаясь к ним, сказал:
— Я покорен провидению, я счастлив, что умру и предстану перед Богом.
Было так тепло, что открыли окна, смотревшие на море незрячими глазами, а те, за которыми расстилались луга и леса, из-за сильного ветра оставили закрытыми.
Бальдассар попросил придвинуть свою кровать к открытым окнам. У мола моряки поднимали якорь, собираясь отчалить на своем судне. Красавец юнга лет пятнадцати наклонялся над самым бортом; каждый раз, как набегала волна, казалось, что он вот-вот упадет в море, но он прочно стоял на своих крепких ногах. Он раскидывал рыболовную сеть и сжимал своими солеными от ветра губами зажженную трубку. И тот самый ветер, который надувал парус, коснулся своим свежим дыханием щеки Бальдассара. Он отвернулся от окна, чтобы не видеть радостей жизни, столь страстно любимых им утех, которых он никогда больше не сможет вкусить. Затем он снова посмотрел в направлении порта; трехмачтовое судно снималось с якоря.
— Это то судно, которое отплывает в Индию, — сказал Жан Галеас.
Бальдассар не различал стоявших на палубе и махавших платками людей, но представлял себе ту жажду неизведанного, которой загорался их взгляд. Много лет еще было у них впереди; они могли многое изведать, многое пережить. Подняли якорь, раздался крик, и судно по сумрачному морю двинулось к востоку, где в золотистом тумане не отличить судна от облачка и где солнце нашептывало отъезжающим невыносимо прекрасные и смутные обещания.
Бальдассар велел закрыть эти окна и открыть те, которые выходили на луга и леса. Он взглянул на поля, но до его слуха еще долетали прощальные возгласы с трехмачтового судна, и он все еще видел юнгу с трубкой в зубах, забрасывающего свою сеть.
Рука Бальдассара судорожно вздрагивала. Вдруг он услышал тихий, едва уловимый для слуха и глубокий, как биение сердца, звук. Это был колокольный звон из очень дальней деревни; в этот вечер, благодаря прозрачности воздуха и благоприятному ветру, он пролетел немало равнин и рек, прежде чем достичь чуткого уха Бальдассара. Этот звук был издавна знаком ему; он чувствовал, как его сердце билось в такт ритмичным ударам колоколов; он задерживал дыхание в тот момент, когда колокола как бы вбирали звук в себя, и затем долго и слабо выдыхал воздух вместе с ними. Во все периоды своей жизни, каждый раз, как ему приходилось слышать дальние колокола, он невольно вспоминал их нежный звон в вечернем воздухе, когда еще ребенком возвращался полями в замок.
В эту минуту доктор позвал всех и сказал:
— Все кончено!
Бальдассар покоился с закрытыми глазами, прислушиваясь сердцем к колокольному звону, уже недоступному его парализованному смертью слуху. Он еще раз увидал свою мать такою, какой она приходила к нему по утрам и целовала его, а по вечерам укладывала спать, согревая его ноги в своих руках и оставаясь подле него, если он не мог уснуть; он вспоминал своего Робинзона Крузо; вечера в саду, когда пела его сестра; слова своего учителя, предсказывающего ему великую музыкальную будущность; вызванное этими словами волнение матери, которое она тщетно пыталась скрыть. Теперь было уже поздно осуществить страстные мечты его матери и сестры — мечты, которые он так жестоко обманул. Он еще раз увидел большую липу, под которой сделал предложение своей невесте, вспомнил день, когда расстроилась его помолвка. Тогда только мать сумела успокоить его. Ему показалось, что он целует свою старую няню и держит в руках свою первую скрипку. Он увидел все это в светлой, нежной и печальной дали, напоминающей те дали, на которые незрячими глазами смотрели окна, обращенные к полям. Он еще раз увидел все это, хотя не прошло и двух секунд с тех пор, как доктор, выслушав его сердце, сказал: