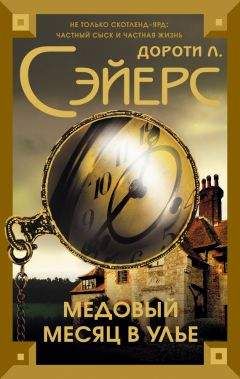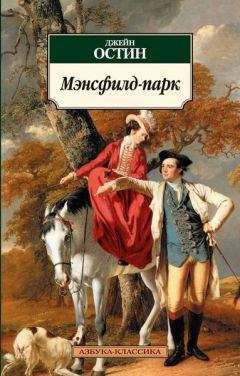— Ты у меня глупый, — сказала Розмэри, выходя из библиотеки. Но в спальню она не вернулась. Она вошла в свой кабинет и села за письменный стол. Хорошенькая! Совершенно прелестная! Поражен! Ее сердце билось в груди, как тяжелый колокол. Хорошенькая! Прелестная! Розмэри придвинула к себе чековую книжку. Нет, чек тут, конечно, не годится. Она открыла ящик, вынула пять бумажек, по фунту стерлингов каждая, посмотрела на них, две сунула назад в ящик, три сжала в руке и отправилась в спальню.
Когда Розмэри через полчаса заглянула в библиотеку, Филипп все еще сидел там.
— Я только хотела сказать тебе, что мисс Смит не будет сегодня обедать с нами. — Розмэри опять прислонилась к дверному косяку и смотрела на мужа своими необычайно блестящими глазами.
Филипп отложил газету.
— Почему? Уже приглашена в другое место?
Розмэри подошла и села к нему на колени.
— Она ни за что не хотела оставаться, поэтому я просто дала бедняжке денег. Не могла же я удержать ее насильно, — тихо сказала она.
Розмэри успела уже причесаться, чуть-чуть подвести глаза и надеть жемчуг. Она провела ладонями по щекам Филиппа.
— Я тебе нравлюсь? — спросила она, и ее нежный глуховатый голос взволновал его.
— Ужасно нравишься, — ответил он, крепче прижимая ее к себе. — Поцелуй меня.
Последовало молчание.
Потом Розмэри мечтательно сказала:
— Я видела сегодня восхитительный ларчик. Он стоит двадцать восемь гиней. Можно, я куплю его?
Филипп стал покачивать ее на коленях.
— Можно, маленькая мотовка.
Но ей хотелось спросить его не об этом.
— Филипп, — прошептала она, прижимая голову мужа к своей груди, — а я хорошенькая?
Муха
перевод Л. Володарской
А вы здесь уютно устроились, — пропыхтел старый мистер Вудифилд, утопая в зеленом кожаном кресле, которое стояло возле рабочего стола шефа здешней конторы и его друга, и выглядывая из него, подобно младенцу из коляски. Разговор был закончен, настало время уходить, но как этого ему не хотелось. С тех пор, как он вышел в отставку, с того… удара жена и девочки выпускают его из дому только по вторникам. В эти дни его одевают, чистят и разрешают на весь день ехать в Сити, хотя ни жена, ни девочки не представляют, что он там делает. Верно, думают, что он надоедает старым друзьям… Пусть так. Свои последние удовольствия мы любим так же нежно, как дерево — последние осенние листочки. Вот почему старый Вудифилд курил сигару и чуть не с жадностью вглядывался в старого приятеля, который крутился в своем служебном кресле, толстый, цветущий, несмотря на пять лет разницы не в его пользу, все еще полный жизни, все еще не выпускающий руля из рук. Смотреть на него и то приятно.
— Честное слово, у вас стало очень уютно, — проговорил старик и грустно и восхищенно одновременно.
— Да, уютно, — согласился шеф и щелкнул ножом для разрезания бумаг по «Файнэншл таймс». Вне всяких сомнений, он гордился кабинетом, и ему нравились похвалы, особенно если они исходили от старого Вудифилда. Глубокое, ни с чем не сравнимое удовлетворение ощущал он, сидя посередине комнаты напротив дряхлого старика в кашне.
— Я только недавно окончательно привел его в порядок, — привычно пояснил он, как делал это уже… сколько же?.. много недель. — Ковер совсем новый. — Он показал на ярко-красный ковер с большими белыми кругами. — Мебель тоже новая. — И он кивнул на массивный книжный шкаф и стол, ножки которого напоминали застывшую патоку. — Электрическое отопление! — При этих словах он почти торжественно помахал в сторону пяти прозрачных, отливающих жемчужным блеском колбасок в опрокинутой медной кастрюле, от которых шло нежное сияние.
Однако он не показал старому Вудифилду фотографию серьезного юноши в военной форме на фоне искусственных деревьев и искусственных туч, которая стояла у него на столе, правда, в ней не было ничего нового для Вудифилда, впервые увидевшего ее шесть лет назад.
— Мне что-то нужно было вам рассказать, — с потемневшими от напряжения глазами растерянно произнес старик. — А что, не помню. Утром помнил, когда собирался к вам сюда. — У него задрожали руки и лицо пошло красными пятнами.
«Бедняга, его песенка спета», — подумал шеф, и в нем шевельнулось доброе чувство к старику. Он подмигнул ему и игриво проговорил:
— А знаете, тут у меня есть капелька кое-чего. Вам необходимо взбодриться перед уходом. Прекрасная штука. Не повредит даже ребенку. — Специальным ключиком, прикрепленным к цепочке от часов, он отпер дверцу шкафа и достал толстую темную бутылку. — Вот наше лекарство, — сказал он. — Меня уверяли, что эта бутылка из самого Виндзорского дворца.
Старый Вудифилд так и застыл с открытым ртом. Наверное, он бы меньше удивился, появись из шкафа кролик.
— Неужели виски? — еле слышно пропыхтел он.
Шеф так и этак вертел бутылку, с гордостью демонстрируя этикетку. Виски.
— Представляете, — благодарно сказал Вудифилд, выглядывая из кресла, — дома мне не разрешили бы даже попробовать. — Казалось, еще секунда — и он расплачется.
— Ну-ну, в этом-то мы понимаем больше, чем женщины, — бодрым голосом произнес шеф, после чего взял стаканы, стоявшие возле графина с водой, и налил в них по доброй порции виски. — Пейте, хуже не будет. Только не портите его водой. Когда попадается такое виски, вода уже святотатство. Ну же! — Одним глотком он осушил свой стакан, торопливо вытер усы и уставился на старого Вудифилда, который, похоже, не очень спешил.
Наконец он тоже выпил и, помолчав немного, промолвил:
— Чудесно!
Виски, поначалу согрев его старое тело, проникло в застывший мозг — и он вспомнил.
— Вспомнил, — Вудифилд даже вылез из кресла. — Вам это будет интересно. Мои девочки на прошлой неделе ездили в Бельгию на могилу нашего бедного Реджи, и они были на могиле вашего мальчика. Кажется, они лежат там совсем близко.
Старый Вудифилд замолчал, но шеф не издал ни звука. Ничего не изменилось в его лице, лишь подрагивавшие веки выдавали его чувства.
— Девочкам там понравилось, везде чисто и порядок, — вновь запыхтел старик. — Образцовый порядок. Как дома, даже лучше. Вы не были там?
— Нет! Нет! — Он не хотел обсуждать причины своего поведения.
— Целые мили одних могил, — с дрожью в голосе продолжал Вудифилд. — И цветы, как в саду. Много цветов. А между могилами широкие аккуратные дорожки. — По тому, как он это сказал, стало ясно, что самое большое впечатление произвели на него именно дорожки.
Старик, несмотря на наступившую паузу, уже не казался таким безжизненным.
— Вы не представляете, — запыхтел он, — сколько отель потребовал у девочек за баночку джема. Десять франков! Это же просто грабеж! К тому же Гертруда говорит, что баночка была совсем маленькой, на полкроны, не больше, да и взяли они всего ложечку, а им десять франков. Зато Гертруда что сделала, как вы думаете? Взяла и забрала всю банку. Правильно. Пусть не играют на наших чувствах. Думают, раз мы приехали, значит, у нас денег куры не клюют. Так-то вот! — С этими словами старик двинулся к двери.
— Совершенно верно, совершенно верно! — восклицал, провожая гостя, шеф, хотя он не слышал ни одного слова. Он поднялся из-за стола, обогнул его. А так как Вудифилд еле волочил ноги, то шеф легко догнал его, проводил до двери кабинета, потом до выхода из конторы. Наконец Вудифилд ушел.
Шеф, не двигаясь с места, долго глядел в пустоту, не замечая седовласого курьера, который наблюдал за ним, то выглядывая из своей конуры, то прячась в нее обратно, и был похож на терпеливо ожидавшую прогулки собаку.
— Полчаса никого не принимать, — сказал шеф. — Поняли? Никого.
— Слушаю, сэр.
За закрытой дверью тяжелые шаги пересекли красный ковер, затем толстое тело заполнило собой мягкое кресло — шеф, ссутулившись над столом, приготовился плакать…
Страшно даже представить, какой удар нанес ему Вудифилд, заговорив о могиле мальчика. Словно земля разверзлась, и он увидал, как тот лежит, а сверху на него смотрят дочери Вудифилда. Странно. Больше шести лет прошло, а шеф все еще представлял мальчика таким, как в тот день, когда он навсегда уснул в своей могиле.
— Мой сын! — простонал шеф.
А слезы все не шли к нему. В первые месяцы и даже годы после смерти мальчика стоило ему произнести эти слова, как его охватывала тоска, от которой освобождали лишь самые ужасные рыдания. Тогда он уверял всех и каждого, что время ничего не может изменить. Другие, вероятно, оправляются от своего горя, забывают о потере, но только не он. Нет, это невозможно. Его малыш, его единственный сын. С того самого дня, как он родился, шеф работал, не зная усталости, он расширял, укреплял свое дело — и все ради него, единственно ради него, иначе какой в этом был смысл? Даже его жизнь не имела смысла без сына. Разве стал бы он так рабски трудиться, отказывая себе во всем, упорно двигаясь к намеченной цели? Он жил одной мечтой, никогда не оставлявшей его, что сын займет его место и продолжит его дело.