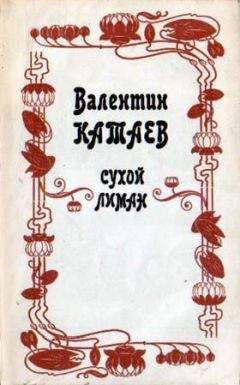Получился прекрасный крещенский ужин. Настоящее пиршество при трескучем блеске крещенских звезд, видных в черном окошечке.
Фельдфебель пригласил к столу, покрытому чистой хусткой, меня, господина вольноопределяющегося, а супруге своей молвил:
– А вы тоже седайте с нами.
И она сконфуженно села па край коника и зарделась от счастья, как уже порядочно увядшая, но все еще милая троянда, что значит по-украински роза.
Никогда еще я так вкусно, с таким аппетитом не ужинал, и мне казалось, что эта прекрасная жизнь продлится вечно.
Впрочем, Ткаченко вскоре спровадил меня в соседнюю комнату, там на полатях помещались белорусская беженка с пятнадцатилетней дочкой Надей. Мне была предоставлена лавка в красном углу, где я и расстелил мехом вверх свою кожаную куртку, показав таким образом хорошенькой, хотя и слишком белобрысой беженке Наде свои погоны вольноопределяющегося с пушечками.
Наступили суровые будни, и не помогли заискивание и хитрости.
Фельдфебель сделал мне замечание насчет моей одежды: белая папаха не положена, кожаная куртка на меху не положена, пояс офицерского образца тоже не положен. И вообще все не положено, даже сапоги с ремешками. Надо, чтобы все было по форме, а не как у чучела, все как у настоящего артиллериста. Затем он дал мне несколько толстеньких книжек в клетчатых переплетах, разные уставы: полевой, гарнизонный и тому подобное. Я должен был выучить их если не наизусть, то, во всяком случае, как сказал фельдфебель, назубок. Затем он сводил меня в артиллерийский парк на задах Лебедева и показал орудие: трехдюймовую полевую скорострельную пушку с масляным компрессором, поршневым затвором, оптическим прицельным приспособлением и зеркальным отражателем, так называемой панорамой.
Ну и так далее.
Все-таки я никак не ожидал, что мой воинский лихой вид будет воспринят фельдфебелем как чучело. Печально.
Первое мое письмо с фронта заканчивалось следующим образом:
«Теперь я уже живу не у фельдфебеля, а во взводе, с солдатами, в избе. Все хорошо, но слишком тоскливо без интеллигентного общества. Если можете, напишите какому-нибудь знатному офицеру, чтобы он взял меня к себе ординарцем. Нет, шучу. Во-первых, у офицеров нет ординарцев, а только денщики. А быть денщиком по своим вкусам и положению «не положено», как говорится у нас в армии. У нас крепкие северные крещенские морозы, но солдатскую службу я переношу довольно легко. Ни одного замечания пока не имею… Бывало, скачу на лошади – без седла и шпор – крупной рысью… Эх, да что говорить! Милая Миньона, пожалуйста, не забывайте, пишите. Ей-богу, без Наших писем как без воздуха. Поскорее бы из резерва на передовые!
Солдатский телеграф сообщает, что выступаем 16 января, как раз в день моего рождения. Дай бог! Любящий Вас Саша Пчелкин, канонир третьего орудия второго взвода первой батареи 64-й артиллерийской бригады. Вот!»
Никакой лихой скачки на неоседланной лошади, да еще и без шпор, конечно, не было. Если что-нибудь подобное и было, то это небольшая верховая поездка на смирной лошадке, когда батарейных лошадей водили на водопой и мне разрешили проехаться немножко верхом. Естественно, что никаких шпор не имелось, так как по моему званию канонира они не полагались. Все это был всего лишь поэтический вымысел, невинное мальчишеское хвастовство, позерство, так же как и жалобы на отсутствие интеллигентного общества, что в устах исключенного гимназиста звучало юмористически.
Между первым и вторым письмом я обнаружил хрупкие листочки почтовой бумаги с заметками, написанными анилиновым карандашом все тем же моим еще не вполне устоявшимся почерком более чем полувековой давности. Я совсем забыл об этих заметках и не имею понятия, каким образом они сюда попали.
«…я спал крепким детским сном на нарах, покрытых соломой, в небольшой белорусской халупе, где помещалось шестьдесят человек. Вы только представьте себе: шестьдесят! Мое место находилось между двумя солдатами, из которых один – из моего взвода, а другой ездовой, мне мало знакомый, который спал, не раздеваясь, в своей стеганой заношенной телогрейке. Он был очень высок ростом, костляв и все время старался поджать под себя слишком длинные ноги, отчего его зад упирался в меня, иногда выпуская сквозь стеганые штаны газ, что у солдат называлось «пускать шептуна». Меня это раздражало, но я был среди солдат еще недостаточно своим, чтобы выразить по этому поводу неудовольствие. Я только отворачивался и зажимал нос.
В халупе было трудно дышать.
В темном воздухе, пропитанном запахами махорки, мокрой кожи, пота, заношенной одежды и гари топившейся печки, язычок керосиновой коптилки горел как бы с большим усилием, готовый каждую минуту померкнуть».
И все-таки я крепко спал и видел мучительные сны, недоступные описанию, так как они представляли смешение реального и абстрактного, а скорее всего были как бы овеществленной истиной, какой-то высшей правдой бытия, доступной человеческому пониманию только во сне, начисто забывшемся после пробуждения.
Во сне, как мне теперь представляется, я испытывал мучительную двойственность своего существования, которое было во сне совсем не таким, как наяву.
Во сне я был совсем не тем чучелом, ряженным в выдуманную мною же военную форму, молодцом-патриотом в кожаной куртке и лихо заломленной белой папахе, якобы влюбленным в хорошенькую дочку командира бригады, что ставило меня в некоторое привилегированное положение среди других нижних чинов батареи.
Во сне я был одинок и несчастлив.
Обстоятельства, которым я не захотел противиться, безудержно несли меня в темное будущее. Я стал игрушкой обстоятельств. Я не пожалел стареющего отца, даже не подумал, что, уезжая на войну, нанес ему смертельную рану. Мне и в голову не приходило, что прошлое уже никогда не вернется. И я сам предал это прекрасное прошлое. Я напрягал все свои душевные силы, внушая себе, что люблю Миньону. Может быть, я действительно был в нее влюблен, как во многих других. Но это была всего лишь влюбленность, легкое волнение в крови полуюноши-полумальчика.
Я любил другую, ту самую Ганзю, о которой вдруг с такой безнадежностью стал вспоминать в последние дни.
Я никогда не видел ее во сне. Но она всегда как бы незримо, невещественно присутствовала в моих сновидениях…
«…сон мой был резко прерван орудийным фейерверкером, внесшим в халупу облако сплошного морозного пара.
– Сегодня беспременно полетит! – громко крикнул он. – Подъем!
…стоя по колено в сугробе, я умывался жестким снегом…
Сновидение забылось, я уже был прежним добровольцем, еще не принявшим воинскую присягу и одетым не но форме.
Около восьми часов утра, а на дворе еще ночь, даже кое-где в небе видны звезды. Трескучий мороз обжигает. Полоса темно-апельсинной поздней январской зари занимается над лиловыми снегами, и сказочный, колдовской ущербный месяц низко висит над таинственным мелколесьем.
Верст за двадцать слышна орудийная пальба, будто кто-то громадный, невидимый стоит на краю света и хлопает дверью. А еще лучше не хлопает дверью, а выбивает ковры. Там передовые позиции. А мы все еще в резерве.
…Артиллерийский парк. Орудия в надульниках и брезентовых чехлах на затворах. Ездовые запрягают в передки по-зимнему мохнатых лошадей, выкатывают спаренные зарядные ящики. Застоявшиеся лошади ржут, танцуют и бьют подковами в промерзший снег. Часовой в валенках, с обнаженным бебутом у плеча выглядывает из своего постового тулупа и осипшим, еще как бы ночным голосом говорит:
– Нынче непременно должон полететь.
Два орудия моего второго взвода запряжены. Ездовые на местах. Выводят золотисто-карего коня для офицера.
– Смир-рно! Равнение на-а-алево!
Появляется офицер. Он в щегольском романовском полушубке и серой смушковой папахе. Он оглаживает, треплет лошадь по шее рукой в замшевой перчатке, берется за холку, чуть притрагивается к стремени носком до блеска начищенного хромового сапога, и через миг его статная фигура уже чуть покачивается в скрипучем новеньком седле.
– Ша-агом аррш!
Ездовые верхом на своих лошадях и наш взвод – два орудия, – гремя, и визжа, и как бы размалывая снег колесами, медленно двигаются мимо обледеневшего сруба колодца, мимо разбитой халупы со скелетом обгорелых стропил, печальным и уже отчетливо рисующимся на фоне утреннего, заметно позеленевшего неба. Поворачиваем на проселок.
– Ры-ысью!
Я взбираюсь и сажусь на передок, который шатается, подскакивает, и мотаюсь на нем, как мешок овса.
Ясное утро разгорается, и вот я вижу на пригорке красивую помещичью усадьбу-фольварк, окруженную по-зимнему голой зеленовато-серой ольховой рощицей, где размещен обоз второго взвода нашей бригады.
В словаре войны наиболее часто звучали два слова: «халупа» и «фольварк». Ни одного военного рассказа, ни одной газетной корреспонденции из действующей армии не обходилось без этих доселе незнакомых слов, как бы заключавших в себе самую суть идущей войны.