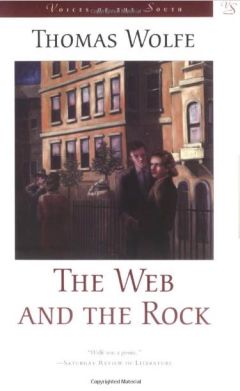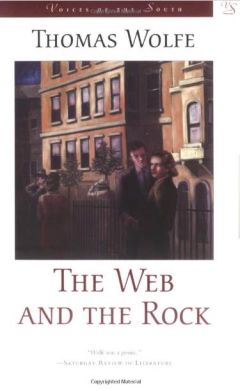словно из капель крови Медузы, уже теснилась вокруг погибшего. Несколько полицейских бранью и тумаками раздвигали уплотнявшееся кольцо, которое жутковато напоминало мясных мух в работе над мертвым или сладким. И лоснящиеся машины на мостовой, остановленные светофором, снова пришли в движение.
Была опасность более долгой остановки, затора в напиравшей сзади лаве, потому что в передовом отряде машин отдельные человеческие элементы замерли под наркозом ужаса и не могли «включиться» сразу, как следовало хорошим механизмам. Но их запустил гигант регулировщик, который стоял посреди улицы, махал огромной рукой, как цепом, и сыпал крепкими ругательствами, звучавшими особенно сочно оттого, что вылетали они из-под по-обезьяньи длинной верхней губы. И вот светофоры опять загорелись зеленым, глотка улицы оттаяла, горячие колонны машин поползли туда и сюда — армия чудовищных жуков под началом гориллы. Снова загремели клепальные молотки, высоко в синем небе повернулась стрела деррика, цепь с уравновешенным грузом стали качнулась и пошла вниз.
Тело уже внесли в дом, и полицейские бросались, как быки, на упрямую толпу. Молодая женщина, яркая, в броне городской элегантности, смотрела из окна закрытой машины, прижав к стеклу руку в перчатке, с косметическим страданием на лице. Она монотонно и сердито шептала шоферу: «Скорей! Скорей! Скорей же!» Шофер флегматично согнулся над баранкой. Он был расстроен, но не мог этого показать. Возможно, он думал: «Вот черт. Надо побыстрей ее отсюда. Что он скажет, когда узнает от нее? А я-то чем виноват? Я же не отвечаю за то, что он сделал. Думать надо было. Прямо не знаешь, что на тебя свалится. Тут ко всему надо быть готовым».
Он рискнул. Быстро и ловко обогнул три машины и под ругань шоферов выскочил в передний ряд как раз к зеленому свету. Дама с облегчением откинулась на спинку. Слава богу! Молодец Джордж. Всех обогнал: непонятно даже, как ему удалось. Прекрасно выбрался.
Я прислонился к стене. Голова кружилась, в груди было пусто. Мне показалось вдруг, что я существую только в двух измерениях: все вокруг словно вырезано из плотной бумаги, лишено толщины.
«Свет покидает небо» [4]. Да, свет вдруг покинул небо, и мир потерял сердцевину. Жизненная сила, переполнявшая мир, людей и самый воздух, исчезла. От прежнего тепла и цвета остался лишь вялый набросок, и сразу уставшие глаза смотрели на него со скукой и недоверием. Все на улице двигалось туда и сюда. Казалось, что все это плоское, двухмерное, без тела и толщины. Улица, люди, высокие узкие здания — всюду прямые линии и углы. Ни одного закругления на улице — единственным, что круглилось, был этот звучный крик.
И так же, как полдень погас, образ той женщины под ударом случайной и страшной смерти, выношенной миром, в котором она жила, исказился, претерпел печальное превращение.
Ибо там, где это светлое, доброе лицо только что вырабатывало для меня магическую уверенность и цельную радость, чудесный мир здоровья и жизни был взорван анонимной смертью, утоплен в анонимной крови, и я уже не мог увидеть ее лицо таким, каким видел в зените.
А вернее, гибель этого человека разворошила все черное пепелище в моем сердце, и кошмарный мир смерти-в-жизни [5] немедленно зашевелился тысячами серых теней безумия и отчаяния, и мучительно, необъяснимо, как непроницаемая тайна любви и смерти, горькая загадка этого лица водворилась среди образов смерти и сводила меня с ума своей неразрешимостью.
Ибо в этом лице вместилось все сожаление и исступленная скорбь о любви, которая должна умереть, но бессмертна, о красоте, которая должна истлеть в старости, искрошиться в горстку сухой пыли, но прочнее стали и камня и безвременна, как река, — о том, что не согнулось под всем безглазым ужасом вселенной и вознеслось выше самых высоких башен, построенных людьми.
И вот тени смерти проснулись и зашевелились вокруг нее, и теперь я мог видеть ее только обеспеченной и неуязвимой под эгидой постыдной кичливой мощи, против которой бессилен любой человек, а сам я — не больше, чем взбешенное животное, и ничего другого не остается, как расшибить свою жизнь и мозг о мостовую, подобно этому человеку, свихнуться в исступленную смерть среди других безликих, безымянных атомов людской массы.
Она представилась мне неуязвимо защищенной в дебрях городской жизни — ядовитой, извращенной, бесплодной жизни, которая плавно течет в хоромах вечной ночи, озаренных зловеще учтивой ненавистью и тщеславием, где слово всегда любезно и увертливо, а глаз всегда стар и дурен и маслится в предвкушении грязной сделки.
Это мир скверны и мертвечины, столь могущественный во всеоружии своего скоромного богатства, своей испорченности, влюбленной в тление и вероломство, своей пресыщенной, рыгающей наглости, своего навала чисел и количеств, что он сокрушает маленькую человеческую жизнь своим разветвляющимся натиском, губит и увечит все живое, чем кормится не только сердце и дух молодости с ее надеждами, гордостью и муками, но даже и тело простого рабочего, чье имя ему неизвестно, о чьей смерти он не услышит и не пожалеет в своей глухой твердыне.
Я пытался отыскать для своей ненависти мишень в этом зыбком мире теней и призраков, но не мог. Не мог проследить ни одного факта до его точной первопричины, вывести его из роковой необходимости. Слова, шепот, смех, даже предательские улики плоти — все неохватное полотно этого фантомного мира было неосязаемо, маячило передо мной — неизбывный свиток краха и презрения.
Затем — я не успел даже сойти с места — наваждение исчезло с той волшебной внезапностью, с какой оно всегда появляется и пропадает; снова люди вокруг жили и двигались, снова был полдень, и я видел ее лицо, как раньше, и думал, что это — лучшее лицо на свете, и знал, что другого такого нет.
Два человека, выбравшись из поредевшей толпы, быстро переходили улицу, и один говорил другому негромким серьезным голосом:
— Господи! — говорил он. — Девчонка-то! Видал? Он прямо чуть не на голову ей свалился!.. Ну да! А я тебе что говорю?.. В обморок, конечно!.. Ее даже в магазин унесли!.. Господи! — закончил он. И через секунду, тихо и доверительно, прибавил: — А ты знаешь, что он уже четвертый на этом доме? Слыхал?
Потом я увидел рядом мужчину с морщинистым выразительным гордым лицом, который смотрел невидящим взглядом сквозь людей, точно впившись во что-то, скрытое от других. Он шевельнулся, медленно повернул голову и тусклым голосом человека, принявшего опиат, произнес:
— Что? Четвертый? Четвертый? — хотя никто к нему не обращался. Затем задумчиво, медленно провел худой рукой по лбу и глазам, устало и медленно