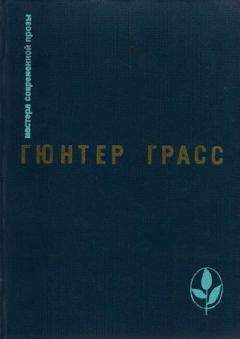спокойнее. После краткого осмотра достопримечательностей времён норманнов и династии Штауфенов в городке Монреале [23] и в центре Палермо я уехал с конгресса пораньше, но не полетел прямым рейсом, а решил воспользоваться пересадкой в Милане. Но перед фасадом собора царили лишь заурядные туристические будни. На мой вопрос о конкретной стоящей скульптуре лишь пожимали плечами. Её отсутствие отозвалось во мне болью.

Боль не оставляла. Как бы заманчиво ни отвлекала меня работа, а первые старческие недуги ни упреждали не только жить здоровее, но и управлять своими чувствами, страстное томление не отпускало меня. Я словно потерял любимую, как будто она покинула меня, и то, чем я обладал, мне суждено было похоронить и оберегать эту утрату как тайну. Не с кем было поговорить об этом. Даже супруге не проронил я ни одного вразумительного слова. А в чём, собственно, я должен был бы ей сознаться? В каких-то многолетних отношениях с молодой женщиной, которая в силу своей профессии держалась окаменевшей, когда я видел её, смотрела поверх меня вдаль и которая, даже если бы у меня и хватило легкомысленной отваги соблазнить её, заговорить с нею, никогда бы не последовала за мной просто потому, что она была во власти другого, того, кого я позволял себе ненавидеть только в часы отчаяния? Нет, не было даже повода для постельной истории. Так что моя жена ничего не узнала, хотя и чувствовала, что наш заезд в Наумбург — тогда, когда стена ещё стояла, — имел последствия.
Так прошли годы. А с ними и столетие. В обращение вошла новая валюта. И когда я в путешествиях повсюду видел людей, что всё ещё работали статуями, то, думая о ней, представлял, как она слышит, что в её серокаменную мисочку со звоном падает теперь диковинная валюта, распространившаяся по Европе.
Большего мне было не дано. Даже мой дар, которым я пользовался с удовольствием или по необходимости, — приглашать гостей к столу на чистом листе бумаги — больше не действовал. Я повторно пригласил безымянного Мастера из Наумбурга и прототипов его именитых донаторов на рыбный суп, бедро косули с сыром и грецкими орехами. Но они не пришли. Ни Реглинда, ни Гербург, ни Тимо, ни Зиццо. Они остались в плену своего времени или не хотели впадать в замешательство от круговерти и кризисов дня сегодняшнего. Наше беспокойство об изменении климата, крахе пенсионной системы или последствиях глобализации их не интересовало. И даже Ута, которую, как я надеялся, можно заманить соломинкой и кока-колой, не приняла моего приглашения.
Не раз ещё бывал я с другими гостями за столом, позволяя себе умчаться в куда более отдалённые времена — сидел, например, на корточках у костра с неандертальцами или пробовал свои силы в бенгальской кухне; приглашений, чтобы я развеялся, было в достатке.
Когда же потом я увидел её, нет, узнал, вопреки совершенно другой, струящейся, одежде и жестам, полным смирения, она стояла, осыпанная красноватой каменной пудрой, словно чудотворная святая. Я наткнулся на неё, совершенно не искав, во время Франкфуртской книжной ярмарки, когда после обеда с издателями случайно забрёл в банковский квартал. Но, возможно, это и не было совпадением. Я улизнул ещё перед десертом, ёрзая и тревожась шальными мыслями о возвращении домой, под предлогом купить себе редкий сорт табаку, а увидел её в том районе, где табачных киосков и не найти.
Она стояла перед «Дойче Банком». Точнее, между главным входом и скульптурой, что бесконечно длящейся петлёй символизирует круговорот денег, абстрактно-безукоризненная форма которой соответствует зеркальным фасадам небоскрёбов. Инородная здесь, и вместе с тем удачно вписываясь, она стояла как Святая Елизавета [24] на постаменте, который, как и её облик, выглядел словно высеченным из красноватого песчаника. Соответствовала этому и мисочка, в которую иногда бросали мелочь редкие изумлённые банковские служащие и, вероятно, состоятельные клиенты. Время от времени кто-то, кого я отнёс к руководящим эшелонам этих небоскрёбов, клал бумажную купюру. Поскольку, согласно экскурсионным программам, туристов тут не бывало, никто и не фотографировал.
Скульптура, так напоминавшая мою Уту — нет же, это была она, — держала в руках широкую плетёную корзину, которая, казалось, тоже была высечена из камня, но в ней была целая копна живых роз, разумеется красных. Они должны были олицетворять то «чудо роз», о котором рассказывает легенда: поскольку Елизавета — жена жестокого тюрингского ландграфа — ежедневно выходила с корзиной хлеба к беднякам, сиротам и увечным, ландграф строго запретил ей подобное окормление. Когда же она пробралась через чёрный ход в башне, наскоро собрав в кухне корочки хлеба и остатки овощей, то ландграф застал её врасплох и гневно сорвал полотняную ткань, укрывавшую корзину. Глянул, а она была наполнена молодыми, распускающимися и пышноцветными розами. Устыдился тогда ландграф и впредь не вёл себя столь бессердечно. С той поры он позволял своей супруге приносить голодающим хлеба, сколько она хотела. Должно быть, это произошло сотни лет назад, а теперь эту роль примерила на себя моя Ута Наумбургская, хотя она и не была канонизированной святой.
Взгляд выдал её. Ни одна Елизавета не смогла бы так целеустремлённо смотреть в пустоту. К тому же ясно неизменны были её утончённая верхняя губа и полноватая нижняя. При ближайшем рассмотрении мизинец её левой руки, которая держала корзину, заполненную розами, совпадал по своей чрезмерной длине с мизинцем той самой руки, с кольцом на указательном пальце, что удерживала складки плаща. Однако на руке Елизаветы, стоявшей перед «Дойче Банком», кольца не было. А правой рукой, которой когда-то высоко поднимала ворот плаща у правой щеки, заслоняясь от супруга и остального мира, она теперь раздавала розы из своих запасов, отвешивая лёгкий поясной поклон особо щедрым клиентам со своего высокого пьедестала.
Я наблюдал долго. Прибывали и уходили посетители банка. Постоянно подъезжали чёрные лимузины. Шофёры отворяли двери. Сотрудники, даже из числа ключевых менеджеров, обратив мимолётный взгляд на стоящую фигуру Елизаветы, спешно исчезали. К этому небоскрёбу как к особо охраняемому зданию был приставлен двойной полицейский патруль. И нигде не было видно её ливанского ухажёра. Может, сутенёра больше при ней не было? Возможно, его депортировали и он продолжил свой бизнес в Бейруте или в Дамаске. Не состоя ни у кого в рабстве, моя Ута в образе Елизаветы теперь была свободна от внутренних и внешних понуждений. Ей больше не грозили ни побои, ни гнусные штрафы и унижения, она могла свободно, по своей прихоти или