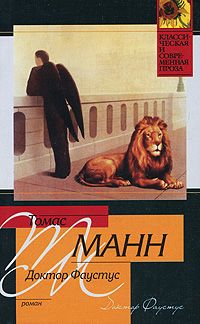Ознакомительная версия.
В предвечерние часы мы совершали великолепные прогулки, во время которых нередко раздавался весёлый смех по поводу англосаксонских шуток Рюдигера Шильдкнапа, — в долину, по дорогам, окаймлённым тутовыми деревьями, на простор заботливо возделанной земли, к её оливам и виноградным лозам, к её изобильным полям, разделённым на усадебки каменными оградами с почти величественными воротами. Надо ли говорить, что меня, и без того взволнованного встречей с Адрианом, бесконечно радовало классическое небо, на котором за несколько недель нашего пребывания в доме Манарди не появилось ни одного облачка, и вообще дух античности, который витал над страной, воплощаясь то в кладке колодца, то в живописной фигуре пастуха, то в демонической, напоминавшей Пана, голове козла? Адриан, разумеется, лишь улыбался и не без иронии качал головой в ответ на восторги моей гуманистской души. Эти художники весьма равнодушны к антуражу, не имеющему прямого отношения к той сфере работы, в которой они живут, и, стало быть, видят в нём всего лишь нейтральное, более или менее благоприятное творчеству обрамление. Возвращаясь в городок, мы глядели в сторону заката, и такого роскошного вечернего неба мне никогда больше не случалось видеть. На западном горизонте, в кармазинном ореоле, плыла маслянисто-густая полоса золота, — это было настолько необычно и настолько красиво, что, пожалуй, могло настроить и на шаловливый лад. И всё-таки меня немного коробило, когда Шильдкнап, указывая на волшебную картину, восклицал: «Обозрите сие!» — а Адриан разражался тем благодарным смехом, который у него всегда вызывали остроты Рюдигера. Мне же казалось, что он пользуется случаем заодно посмеяться и над нашей с Еленой восторженностью, и над самим явлением природы, столь великолепным.
О монастырском саде над городком, куда друзья по утрам поднимались со своими портфелями, чтобы работать порознь, я уже упоминал. Они попросили у монахов разрешения там располагаться, и таковое было им благосклонно дано. Мы тоже часто отправлялись с ними в душистую тень этого запущенного, обнесённого ветхой стеной вертограда, а придя на место, скромно оставляли друзей наедине с их занятиями, чтобы не на виду у обоих, которые и сами-то друг друга не видели, разделённые кустами олеандра, лавра и дрока, по-своему провести несколько предполуденных, нарастающе жарких часов: Елена вязала, а я, приятно взволнованный сознанием, что где-то поблизости Адриан продолжает сочинять оперу, почитывал какую-нибудь книжицу.
На довольно-таки расстроенном клавикорде, стоявшем в гостиной друзей, он однажды — к сожалению, только однажды за наше там пребывание — сыграл нам из законченных и почти целиком уже инструментованных для изысканного оркестра частей «забавной и приятной комедии, именуемой «Бесплодные усилия любви» — так называлась пьеса в 1598 году, — некоторые характерные места и несколько связанных между собой сцен: первый акт, включая явление в доме Армадо, и кое-какие отрывки из последующих действий, в частности монологи Бирона, которые Адриан давно уже вынашивал, — стихотворный в конце третьего акта, и ритмически свободный в четвёртом, — they have pitch’d a toil, I am toiling in a pitch, pitch, that defiles[87], исполненный комического, гротескного и всё же подлинного, глубокого отчаяния рыцаря по поводу его влюблённости в подозрительную black beauty[88], насыщенный яростным самобичеванием — By the Lord, this love is as mad as Ajax: it kills sheep, it kills me, I a sheep[89], — в музыкальном отношении удавшийся ещё лучше, чем первый. Это объясняется отчасти тем, что быстрая, отрывистая, сыплющая каламбурами проза подсказала композитору особенную, необычайно шутливую акцентировку, отчасти, однако, и тем, что самое выразительное и самое впечатляющее в музыке — это многозначительные повторы, остроумные или глубокомысленные возвращения уже знакомого; во втором же монологе блестяще напоминали о себе элементы первого. Так обстояло дело прежде всего с горьким самопоношением сердца, которое покорил «белёсый домовой бархатнобровый — две пули смоляные вместо глаз», особенно же с музыкальной картинкой этих проклятых любимых смоляных глаз, тускло сверкающим, составленным из звуков виолончели и флейты, лирически-страстным, но в то же время гротескным мелизмом{1}, причудливо и карикатурно повторяющимся в прозе при словах О, but her eye — by this light, but for her eye, I would not love her[90], — причём темнота глаза подчёркнута здесь тональностью, а его сверкание передано уже малой флейтой.
Не подлежит никакому сомнению, что странно навязчивое и притом ненужное, драматически мало оправданное описание Розалины, изображающее её распутной, вероломной, опасной бабёнкой, — характеристика, которая явствует единственно из речей Бирона, ибо на реальной почве комедии данная особа всего лишь дерзка и зубаста, — не подлежит сомнению, что это описание вызвано упорным, не замечающим художественного ущерба стремлением поэта запечатлеть какой-то личный опыт и — к месту или не к месту — за него отомстить. Розалина, в том виде, в каком не устаёт её изображать влюблённый, — это смуглая дама второго цикла сонетов, статс-дама Елизаветы, возлюбленная Шекспира, обманывавшая его с молодым другом, а «образец рифмоплётства и меланхолии», с которым Бирон выходит на сцену, чтобы произнести свой прозаический монолог — Well, she has one o’my sonnets already[91] — это один из многих сонетов, адресованных Шекспиром чёрно-бледной красавице. И почему это вдруг Розалина применяет к острому на язык и вполне весёлому Бирону пьесы такой афоризм:
Степенность, обезумев от любви,
Пылает жарче молодой крови?
Ведь он-то как раз молод и не «степенен» и уж никак не может дать повод к замечанию, что, дескать, жалки мудрецы, превращающиеся в глупцов и расходующие все силы своего ума на то, чтобы облагородить вздорность. В устах Розалины и её подруг Бирон перестаёт быть собой: это уже не Бирон, а Шекспир, с его злосчастной привязанностью к смуглой даме; и Адриан, всегда носивший с собой английское карманное издание сонетов, этого архистранного трио поэта, друга и любимой, с самого начала задался целью согласовать характер своего Бирона с тем дорогим ему, композитору, диалогом и дать герою такую музыку, которая — в надлежащей пропорции к карикатурности целого — показала бы его «степенным», духовно значительным, то есть действительно сделала бы его жертвой постыдной страсти.
Это было прекрасно, и я хвалил Адриана от души. Впрочем, немало оснований для похвалы и радостного изумления давало всё, что он нам играл! К его музыке можно было без иронии отнести слова, сказанные о себе учёным буквоедом Олоферном{2}:
«Природа моего дарования проста, проста! У меня озорной, необузданный ум, полный образов, фигур, форм, предметов, идей, явлений, импульсов, ассоциаций. Зачинаются они в утробе памяти, созревают в лоне pia mater[92] и родятся на свет, когда того потребует случай». Delivered upon the mellowing of occasion. Замечательно! По пустяковому, совершенно несерьёзному поводу поэт даёт здесь исчерпывающее определение артистизма, и его невольно хотелось применить к артисту, который у нас на глазах переносил в сферу музыки сатирический опус молодого Шекспира.
Стоит ли при этом вовсе умалчивать, что лично меня слегка обижали или, вернее, огорчали насмешки над изучением античности, которое в пьесе предстаёт каким-то аскетическим педантством? В шаржировании гуманизма повинен был, однако, не Адриан, а Шекспир, утвердивший своеобразную логическую систему, где понятия «образование» и «варварство» играют столь странную роль. Первое — это интеллектуальное монашество, просвещённая сверхутончённость, глубоко презирающая жизнь и природу, усматривающая именно в жизни и природе, в непосредственности, человечности, чувстве некое варварское начало. Даже Бирон, отстаивая верность природе перед педантичными заговорщиками Академова сада{3}, признаёт, что «сказал больше слов в пользу варварства, чем в пользу ангела мудрости». Этот ангел, правда, становится смешон, но опять-таки по смешной причине, ибо «варварство», в которое впадают союзники, пробавляющаяся сонетами влюблённость — епитимья за измену союзу — тоже не что иное, как остроумно стилизованный шарж, насмешка над любовью, и музыка Адриана только лишний раз убеждала, что чувство в конце концов ничуть не лучше, чем дерзкое от него отречение. Именно музыка, думалось мне, по самой своей природе призвана уводить нас из сферы абсурдной искусственности на волю, в царство природы и человечности. Однако она воздержалась от этой миссии. То, что рыцарь Бирон называет «barbarism» — непроизвольное, и естественное, стало быть, — не справило здесь триумфа.
В техническом отношении музыка, которую ткал мой друг, была в высшей степени удивительна. Брезгая всякой помпезностью, он первоначально собирался составить партитуру только для классического бетховенского оркестра и единственно ради комически-эффектного испанца Армадо ввёл в свой оркестр вторую пару валторн, три тромбона и одну басовую тубу. Но ничто не нарушало строгого камерного стиля, это была филигранная работа, умный, полный изобретательного юмора, затейливо-тонкого озорства звуковой гротеск, и любителя музыки, уставшего от романтической демократии и моральной демагогии, желающего искусства ради искусства, нечестолюбивого или разве честолюбивого в исключительном смысле, искусства для художников и знатоков, привела бы в восторг эта самососредоточенная и совершенно холодная эзотерика, которая, однако, будучи эзотерикой, всячески высмеивала и пародировала себя в духе данной комедии, что примешало бы к восторгу крупицу безнадёжности, каплю грусти.
Ознакомительная версия.