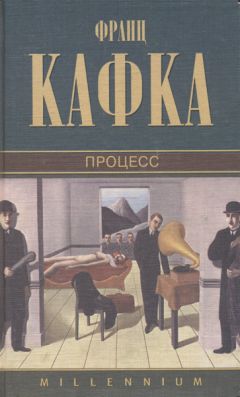Силой этого сходства Кафка принуждает экспрессионизм (химеричность которого он должен был чувствовать лучше всех прочих «сочувствующих» и которому он тем не менее оставался верен) к некой капризной эпике, а чистую субъективность, по необходимости отчужденную также и от самой себя и ставшую вещью, — к некой предметности, которой удается выразить свое собственное отчуждение. Граница между областью человеческого и вещным миром стирается. В этом основа его отмечавшегося многими родства с Клее.[88] Кафка называл свое письмо «каракулями». Вещное становится графическим знаком, зачарованные люди действуют не по своей воле, а так, словно все они попали в некое магнитное поле.[89] Именно эта внешняя детерминированность внутренних фигур прозы Кафки создает такую бесконечно-обманчивую видимость сухой объективности. Область невозможности умереть — это в то же время ничейная земля между человеком и вещью: на ней встречаются Одрадек,[90] в котором Беньямин видел некоего ангела в стиле Клее, с Гракхом, скромным подражанием Нимроду.[91] Понимание этих наиболее авангардных, «несоизмеримых» порождений его фантазии и некоторых других, также не укладывающихся в нынешние представления о Кафке, может в определенном смысле прояснить все остальное. Через все творчество Кафки проходит также тема деперсонализации сексуальных отношений. Согласно ритуалу «Третьего рейха», девушка не имела права сказать «нет» носителю высшей власти, точно так же кафкианские чары как великое табу снимают все более мелкие табу, относящиеся к сфере индивидуального. Хрестоматийный пример — наказание Амалии и ее семьи (то есть родовое) за то, что она не покорилась Сортини.[92] Во властных сферах семья как архаический коллектив одерживает победу над своим более поздним, индивидуализированным выражением. Мужчина и женщина должны сходиться без сопротивления, спущенные друг на друга, как звери. Собственное невротическое чувство вины, свою инфантильную сексуальность и свою навязчивую идею «чистоты» Кафка превратил в инструмент, которым выскабливается общепринятое представление об эротике. Лишенные выбора и воспоминаний, связи служащих больших городов двадцатого века становятся — как, позднее, в одном знаменитом месте «Бесплодной земли»[93] Элиота — имаго неких в незапамятные времена исчезнувших отношений, которые были какими угодно, но не гетерическими. Приостанавливая действие своих норм, патриархальное общество выдает собственную тайну: это общество непосредственного, варварского угнетения. Женщины опредмечиваются в качестве простого средства достижения цели — как сексуальные объекты и как полезные связи. Но Кафка в толще этой мутной воды ловит картину счастья. Она возникает из удивления герметически замкнутого субъекта перед тем парадоксом, что все-таки можно быть любимым. Всякая надежда так же непостижима, как симпатия к арестованному всех женщин в «Процессе»; разочарованный эрос Кафки есть в то же время экзальтированная мужская благодарность. Когда бедная Фрида называет себя возлюбленной Кламма, аура этого слова сияет лучезарнее, чем в возвышеннейших местах у Бальзака или Бодлера; когда она, скрывая от рыщущего хозяина присутствие спрятавшегося под столом К., ставит свою маленькую ногу ему на грудь и потом нагибается к нему и «быстро целует» его, она находит такие жесты, в напрасном ожидании которых может пройти целая жизнь страстного мужского желания. А те часы, которые они пролежали вместе «в лужицах пива и разном мусоре, которым был закидан пол», это часы исполнения желаний в чуждой стране, «где даже в воздухе нет ни единой составляющей воздуха родины».[94] Этот слой Брехт относил к лирике. Но, как и у него, язык экстаза у Кафки весьма далек от экспрессионистического. Использовав элемент визуализации, он изобретательно справился с задачей квадратуры круга: найти слова для пространства безобъектной аутичности, к которому нужно как-то обратиться, в то время как емкость всякого слова всегда больше, чем абсолютное «это» — противоречие, о которое разбились все экспрессионистские поэтические порывы. В качестве предпочтительного элемента визуализации утверждаются жесты. Рассказывать можно только о том, что можно увидеть, при этом рассказываемое является в то же время совершенно чуждым изображаемой картине. Сохраняя верность этой картине, Кафка спасает идею экспрессионизма тем, что вместо тщетного вслушивания в отзвуки празвуков сообщает поэтике габитус экспрессионистской живописи. Последнюю он использует примерно так же, как Утрилло — видовые открытки, с которых художнику предстояло написать свои промерзшие улицы. Для скользящего взгляда, снимающего с объектов всякую эмоциональную окраску заинтересованности, эти улицы — уже не подражание реальности и не сон, под который можно только подделываться, они застывают во что-то третье: в загадочную картинку с натуры, составленную из ее разбросанных обломков. У Кафки многие ключевые места читаются как буквальные переводы с экспрессионистских полотен, которые должны были быть нарисованы. В конце «Процесса» взгляд Йозефа К. упал «на верхний этаж стоявшего вблизи каменоломни дома. Как вспыхивает в темноте свет, так распахнулись там створки одного окна; какой-то человек, слабый и тонкий на таком отдалении и возвышении, рывком наклонился далеко вперед — и еще дальше простер руки. Кто это был? Друг? Добрый человек?» Вот такая работа по переложению и создает образный мир Кафки. Она основывается на строгом исключении всего музыкального (в смысле музыкоподобного), на отказе от антитетической защиты от мифа; как свидетельствует Брод, Кафка был, по обычным меркам, немузыкален. Его безмолвный боевой клич в борьбе против мифа: не сопротивляться. И этот аскетизм одаривает его глубочайшей связью с музыкой в таких местах, как уже упоминавшееся пение телефона в «Замке», или музыкальная наука в «Исследованиях одной собаки» и в одном из его последних завершенных рассказов, «Жозефине». Его хрупкая проза, пренебрегающая всякими музыкальными эффектами, в то же время действует как музыка. Смыслы ее обрываются, подобно мемориальным столпам на кладбищах девятнадцатого века, и только эти линии обрыва — иероглифы ее смыслов.
8
Экспрессионистская эпика — это парадокс. Она рассказывает о том, о чем рассказать нельзя, — о целиком ограниченном собой и одновременно, в силу этого, несвободном, да собственно, вообще не вполне существующем субъекте. Неизбежно диссоциированному на различные стороны занятости собой, лишенному самоидентичности, ему не дано никакого срока жизни: безобъектная аутичность есть пространство в столь точном смысле, что все, чему она дает приют, подчиняется закону отчужденного от времени повторения. Не в последнюю очередь с этим законом связано отсутствие историчности в творчестве Кафки. Для него невозможна ни одна из форм, конституированных временем как единством внутреннего смысла; он приводит в исполнение тот приговор большой эпике, грозное звучание которого Лукач[95] услышал уже у таких ранних представителей жанра, как Флобер и Якобсен.[96] Фрагментарность всех трех больших романов Кафки, которые, впрочем, едва ли уже охватываются понятием романа, обусловлена их внутренней формой. Они не позволяют довести себя до конца в качестве какого-то закругленного до тотальности временного впечатления. Диалектика экспрессионизма приводит Кафку к тому, что его вещи уподобляются авантюрным романам, состоящим из нанизанных в ряд эпизодов. Он любил такие романы. Но, переняв их технику, он в то же время отказался от общепринятых литературных норм. К известным образцам, которым он следовал, надо, видимо, добавить, помимо Вальзера, начало «Артура Гордона Пима» По и некоторые главы «Утомленного Америкой» Кюрнбергера[97] (к примеру, описание квартиры жителя Нью-Йорка). Но более всего солидаризируется Кафка с апокрифичными литературными жанрами. Подозрительны все — эта черточка, резко выделяющаяся на физиономии современной эпохи, взята Кафкой от криминального романа. В таких романах мир вещей получает перевес над абстрактным субъектом, и Кафка использует это для того, чтобы претворять вещи в вездесущные эмблемы. Его большие произведения — это одновременно детективные романы, в которых разоблачить преступника не удается. Еще больше для понимания Кафки дает его связь с де Садом, независимо от того, был ли он известен Кафке. Как невинный герой де Сада (или герой американской кинокомедии, или персонаж газетного уголка юмора), кафкианский субъект, в частности эмигрант Карл Росман,[98] попадает из одной отчаянной и безвыходной ситуации в другую, — главы эпической авантюры превращаются в этапы мученического пути. Эта замкнутая имманентная связь конкретизируется в форме бегства из мест заключения. Чудовищное, с которым ничто не контрастирует, захватывает, как у де Сада, весь мир, становясь нормой, — в противоположность неотрефлектированному авантюрному роману, который вечно претендует на необыкновенность обстоятельств и этим подтверждает их тривиальность. Но в произведениях де Сада и Кафки разум не спит и на principium stilisationis[99] безумия дает возможность проявиться объективному. Оба принадлежат Просвещению, находясь на разных его ступенях; его отрезвляющий свет преломляется в кафковском: «Вот так оно…» Тоном отчета Кафка сообщает о том, что происходит в действительности, отнюдь не обольщаясь на счет субъекта, который, дойдя до предела осознания самого себя, то есть своего ничтожества, выбрасывает себя в выгребную яму — именно так поступает машина для убийства с преданными ей.[100] Он создал тотальную робинзонаду в той ее фазе, когда каждый человек — сам себе Робинзон, и на плоту, нагруженном поспешно собранными пожитками, влечется куда-то без руля и ветрил. Эта связь робинзонады и аллегории, берущая начало от самого Дефо, не чужда традиции Высокого Просвещения. Она принадлежит к ранней стадии борьбы бюргерства с авторитетом религии. В восьмой части направленных против ортодоксального пастора Гёце «Аксиом» («Axiomata») Лессинга, чей поэтический дар Кафка высоко ценил, рассказывается об одном отрешенном от сана лютеранском священнике из Пфальца и его семье, состоявшей из детей-подкидышей обоего пола. Пережив кораблекрушение в районе Бермуд, семья оказалась на маленьком необитаемом острове, причем священник спас и катехизис. Несколько поколений спустя один гессенский миссионер обнаружил на острове потомков этой семьи. Они говорили на немецком, «в котором, как ему показалось, не было ничего, кроме речений и оборотов из лютеровского катехизиса». Потомки были ортодоксальны — «за некоторыми маленькими исключениями. Катехизис за полтора столетия, естественно, истрепался, и у них от него уже ничего не осталось, кроме дощечек переплета. „На этих дощечках, — сказали они, — начертано все, что мы знаем“. — „Было начертано, дорогие мои“, — сказал миссионер. „И осталось, и осталось начертано! — сказали они. — Хотя мы-то сами читать не умеем, да и не совсем понимаем, что значит читать, но наши отцы слышали, как их отцы оттуда читали. А те уже знали и того человека, который вырезал эти дощечки. Этого человека звали Лютер, и он жил вскоре после Христа“».