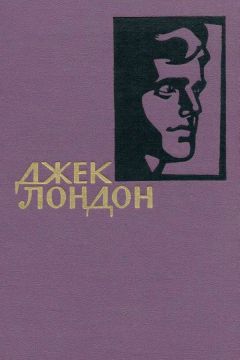В этот вечер мы не ужинали, по крайней мере, «команда», кроме меня. Как раз ко времени ужина, когда товарный поезд выехал из городка, некий субъект залез в вагон, где я играл в педро с тремя бродягами. Рубаха незнакомца подозрительно отдувалась. В руках он держал побитую жестянку, от которой поднимался пар. Носом я зачуял «Яву». Я передал свои карты одному из бродяг и извинился. И в другом конце вагона, преследуемый завистливыми взглядами, я присел с незнакомцем и разделил с ним его «Яву» и все, что распирало его рубашку. Это был швед!
Около десяти часов вечера мы прибыли в Омаху.
— Давай бросим команду! — предложил швед.
— Идет! — согласился я.
Когда поезд подходил к Омахе, мы приготовились сойти с него. Но и жители Омахи тоже приготовились. Мы со шведом висели на боковых лесенках, готовясь соскочить. Но поезд не остановился. Мало того, длинный ряд полисменов, поблёскивая в электрическом свете пуговицами и значками, выстроился по обе стороны рельсов. Мы со шведом понимали, что будет, если мы соскочим в их объятия. Мы остались на боковых лесенках, и поезд повез нас через реку Миссури в Каунсил Блафс.
«Генерал» Келли с армией в две тысячи бродяг расположился лагерем в парке Шатокуа в нескольких милях отсюда. Банда, с которой мы ехали, составляла арьергард «генерала» Келли и, сойдя с поезда в Каунсил Блафс, она приготовилась маршировать к лагерю. Ночью похолодало. Сильные шквалы, сопровождаемые дождем, заморозили нас и промочили насквозь. Масса полиции сторожила нас и направляла к лагерю. Мы со шведом улучили удобную минутку в этой суматохе и улизнули.
Дождь лил потоками, и во мраке, таком густом, что не видно было руки перед носом, мы, как двое слепых, ощупью искали кров. Инстинкт помог нам, ибо очень скоро мы натолкнулись на убежище — не на трактир, открытый и «делающий дела», даже не на кабак, запирающийся на ночь, и не на кабак с постоянным адресом, но на кабачок, поставленный на большие бревна с роликами внизу, передвигаемый с места на место. Дверь была на запоре. Нас обдавало дождем и ветром. Мы не колебались: выломали дверь и вошли внутрь.
Немало я пережил трудных ночей в своей жизни, скитался в сатанинских столицах, ночевал в лужах воды, спал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал семьдесят четыре градуса Фаренгейта ниже нуля (что соответствует ста шести градусам мороза!); но должен сказать, что никогда у меня не было более отвратительной ночи, чем эта, проведенная со шведом в передвижном кабаке в Каунсил Блафс. Во-первых, постройка, как бы подвешенная в воздухе, имела в полу массу отверстий, через которые свободно проходил ветер. Во-вторых, у стойки было пусто, хотя бы бутылка огненной воды, чтобы согреть тело и забыться. Одеял с нами не было, мы пытались спать в мокрой одежде. Я залез под стойку, а швед — под стол. Оставаться там было совершенно невозможно из-за бесчисленных щелей и дырок в полу, и через полчаса я полез на стойку. Спустя некоторое время и швед полез на стол!
Так мы дрожали, дожидаясь рассвета. Я, например, знаю, что я дрожал так, что больше уже не мог трястись: мускулы мои обессилели и только страшно болели. Швед стонал и кряхтел и каждую минуту, стуча зубами, бормотал: «Больше никогда, больше никогда!» Он повторял эту фразу непрерывно, неустанно, тысячи раз, и даже когда задремал, продолжал бормотать во сне.
С первым серым лучом рассвета мы покинули нашу юдоль мучений и вышли наружу, в густой и холодный туман. Мы плелись вперед, пока не дошли до полотна железной дороги. Я решил направиться обратно в Омаху стрельнуть себе завтрак, мой товарищ собрался в Чикаго. Наступил момент расставания. Мы протянули друг другу онемевшие руки. Оба мы отчаянно тряслись и когда пытались заговорить, то могли только постучать зубами и снова закрыть рот. Так стояли мы, одинокие, отрезанные от всего мира; взорам нашим доступен был лишь небольшая часть рельсовой колеи, концы которой терялись во мраке тумана.
Мы тупо глядели друг на друга, сочувственно пожимая трясущиеся руки. У шведа лицо посинело от холода; такое же, я думаю, было и у меня.
— Никогда больше, а? — сумел я наконец выговорить.
Слова застряли в глотке у шведа; и слабым шепотом, исходившим, казалось, из самого дна его замерзшей души, он произнес:
— Никогда больше бродяжничать…
Он помолчал и продолжал уже окрепшим голосом, и в хрипе его слышалась воля:
— Никогда больше не буду бродягой. Я поищу работу. Лучше и тебе сделать то же. От таких ночей, как эта, только наживешь ревматизм.
Он встряхнул мою руку.
— Прощай! — сказал он.
— Прощай! — ответил я.
И через минуту мы скрылись друг от друга в тумане. Это была наша последняя встреча. Привет тебе, швед, где бы ты ни был! Надеюсь, ты нашел работу…
Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях я натыкаюсь на очерки моей жизни, из которых, деликатно выражаясь, узнаю, что я стал бродягой ради изучения социологии. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но совершенно неверно. Я стал бродягой… ну, потому, что жизнь кипела во мне, в крови моей была жажда скитаний, не дававшая покоя. Социология пришла как чисто случайный элемент; она являлась следствием, совершенно так же, как мокрая кожа появляется при погружении в воду. Я вышел на «Дорогу» потому, что не мог жить без нее; потому, что в кармане у меня не было денег на покупку железнодорожных билетов; потому, что был создан так, что не мог всю свою жизнь «работать на одной и той же смене»; потому… ну, потому, что мне легче было бродяжничать, чем не бродяжничать!
Началось это в моем родном городе, в Окленде, когда мне было шестнадцать лет. В эту пору я пользовался головокружительной репутацией в моем избранном кругу авантюристов, давших мне кличку «Принц устричных пиратов». Правда, люди, находившиеся за пределами этого круга, как, например, честные матросы бухты, портовые рабочие, лодочники и законные владельцы устриц, называли меня буяном, головорезом, вором, грабителем и другими мало лестными словами, но все это было для меня комплиментом и подчеркивало головокружительную высоту места, на котором я восседал. В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и впоследствии, прочтя у Мильтона, что «Лучше царствовать в преисподней, чем прислуживать на небесах», я убедился, что великие умы сходятся в мыслях.
В эту пору случайное сцепление обстоятельств отправило меня в мою первую авантюру на «Дороге». Случилось так, что на устрицах в это время заработать было нельзя, что в Бенишии находилось несколько одеял, которые мне нужно было взять, и что в Порт-Коста, в нескольких милях от Бенишии, стояла на якоре украденная лодка под надзором полицейского констебля. Эта лодка принадлежала одному из моих друзей — Динни Мак-Кри. Украл ее и бросил в Порт-Коста Виски Боб, другой мой приятель. (Бедный Виски Боб! Не далее как прошлой зимой он был найден на берегу убитым неизвестно кем.) Незадолго до этого я прибыл с верхнего течения реки и доложил Мак-Кри о местонахождении его лодки; Динни Мак-Кри тотчас же предложил мне десять долларов, если я приведу ее к нему в Окленд!
Свободного времени у меня в ту пору было сколько угодно. Я сидел на пристани и обмозговывал это дело с Никки-Греком, другим признанным и праздным устричным пиратом.
— Давай поедем! — предложил я, и Никки согласился.
Он сидел тогда на мели. У меня было пятьдесят центов и маленький ялик. Центы я пустил в оборот и погрузил их в форме сухарей, мясных консервов и десятицентовой банки французской горчицы (в то время мы были помешаны на французской горчице), затем перед вечером мы подняли наш маленький парус и отправились в путь. Мы плыли всю ночь и к утру с первым же роскошным приливом и с попутным ветром торжественно миновали пролив Каркинеза, направляясь в Порт-Коста. И сразу увидели украденную лодку, привязанную в каких-нибудь двадцати пяти футах от пристани! Мы причалили и спустили свой маленький парус. Я отправил Никки на нос поднять якорь, а сам начал спускать малый парус.
На пристань выбежал человек и окликнул нас. Это был констебль. Мне вдруг пришло в голову, что я забыл запастись письменным полномочием от Динни Мак-Кри на принятие для доставки его лодки. Кроме того, я знал, что констебль желает получить по меньшей мере двадцать пять долларов награды за то, что отобрал лодку у Виски Боба и затем стерег ее. Мои последние пятьдесят центов были истрачены на мясные консервы и французскую горчицу, награда же моя составляла всего десять долларов. Я быстро переглянулся с Никки, хлопотавшим на носу. Он дергал якорь, опускал и поднимал цепь.
— Вытащи вон! — крикнул я ему, затем повернулся и прокричал ответ констеблю. Получилось, что мы с констеблем говорили в одно и то же время, и наши слова, сталкиваясь на половине пути, смешались в неразборчивый гвалт.