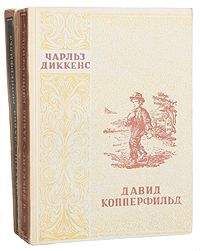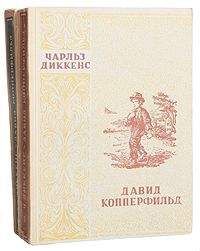Когда Дора, бывало, очень ребячилась и мне чрезвычайно не хотелось портить ей это настроение, я все же старался быть серьезным и этим лишь расстраивал и ее и себя. Я говорил с ней о вещах, занимавших меня, читал ей Шекспира и утомлял ее этим до последней степени. Я приучал себя сообщать eй как будто мимоходом обрывки полезных сведений или разумных мыслей, но она шарахалась от них, как от пистолетных выстрелов. Сколько ни старался я придать моим усилиям естественный характер, я не мог не видеть, что моя женушка всегда инстинктивно угадывала, куда я клоню, и заранее отчаянно пугалась. Особый страх наводил на нее Шекспир.
Я привлек к делу ничего не подозревавшего Трэдльса и всякий раз, когда он приходил к нам, подвергал его жесточайшему обстрелу. Метя в Дору, я обрушивал на своего друга бездну премудрости. Но это лишь удручало Дору и всегда заставляло ее нервно ждать, что вот-вот настанет и ее черед. Я превращался в школьного учителя, в какую-то западню, в паука, то и дело подстерегающего, словно муху, растерянную бедняжку Дору.
Все же я продолжал упорно гнуть свою линию в надежде, что настанет время, когда я к своему полному удовлетворению добьюсь того, что разовью мою женушку. После нескольких месяцев, однако, я убедился, что из моих усилий ровно ничего не вышло, и начал думать, что, быть может, Дора уже достигла своего предельного развития.
После зрелых размышлений я оставил свой неудавшийся план и решил довольствоваться впредь женой-деткой. Я сам устал от собственных усилий быть всегда рассудительным, устал, видя то угнетенное состояние, в которое постоянно повергали дорогую Дору все мои старания. И вот в один прекрасный день я купил пару красивых серег для женушки-детки, ошейник для Джипа и пришел домой с намерением быть приятным. Дора была восхищена подарками и радостно поцеловала меня. Все же между нами оставалась какая-то тень. Правда, она была незначительна, но я решил и эту тень рассеять или, по крайней мере, спрятать ее на будущее время в споем сердце.
Я подсел к женушке на диван и вдел ей в уши серьги, а затем сказал, что, боюсь, в последнее время мы с ней ладили не так хорошо, как прежде, и что виною этому я один. Конечно, оно так и было, и я чувствовал это.
— Суть дела, дорогая Дора, в том, что я старался быть умным.
— И сделать умной и меня? — робко промолвила Дора. — Не правда ли, Доди?
Утвердительно кивнув головой, я поцеловал ее полураскрытые губки.
— Это совершенно бесполезно, — заявила Дора, тряся головой так, что серьги зазвенели. — Вы знаете, кто я и как я с самого начала хотела, чтобы вы смотрели на меня. Если вы не сможете этого делать, боюсь, вы никогда не будете любить меня. Не являлась ли у вас порой мысль… уверены ли вы в этом?.. мысль, что было бы лучше…
— Что было бы лучше, дорогая? — спросил я, так как она умолкла, не окончив своего вопроса.
— Ничего! — сказала Дора.
— Ничего? — повторил я.
Она обняла меня за шею, засмеялась, назвала себя, как часто делала это, «гусенком» и спрятала свое личико уменя на плече.
— Уж не хотели ли вы меня спросить, не думаю ли я, что было бы лучше совсем ничего не делать, чем стараться развивать мою женушку? — смеясь над собой, спросил я. — Да, конечно, я так думаю.
— Так вот, значит, над чем вы старались! — воскликнула Дора. — Вы ужасный мальчик!
— Но больше никогда не буду, — заявил я. — Я нежно люблю вас такой, какая вы есть.
— Правда? — спросила Дора, прижимаясь ко мне.
— Зачем же мне стараться изменить то, что так дорого мне с давних пор? — ответил я. — Ничего не может быть лучше, Дора, когда вы такая, какая вы есть. Бросим всякие фантастические эксперименты, вернемся к нашим старым привычкам и будем счастливы!
— Будем счастливы! — откликнулась Дора. — Да, целый день! И вы не станете сердиться, если иногда не все будет итти вполне гладко?
— Нет, нет! — воскликнул я. — Будем делать, что в наших силах!
— И вы никогда больше не будете говорить мне, что мы портим других людей? — проговорила, ласкаясь, Дора. — Не будете? А то, знаете, это ужасно неприятно.
— Нет, нет! — успокоил я ее.
— Ведь лучше мне быть глупой, чем неприятной, не правда ли?
— Лучше быть просто Дорой, а не кем-то другим!
Она покачала головой, с восхищением посмотрела на меня ясными глазами, поцеловала меня, весело рассмеялась и вскочила, чтобы надеть Джипу новый ошейник.
Так кончилась моя последняя попытка изменить что-либо в Доре.
Я решил делать, что могу, сам исправляя промахи, но предвидел, что это даст мне очень мало, если я не захочу вновь превратиться в паука, постоянно подстерегающего свою жертву.
Тень, о которой я говорил, не должна была впредь вставать между нами, но в моем сердце она залегла прочно.
Я нежно любил свою женушку-детку — и был счастлив, но мое счастье не было тем счастьем, которое я когда-то смутно предвосхищал, — всегда чего-то в нем нехватало. То, чего мне нехватало, всегда казалось мне неосуществимой юношеской мечтой, но я чувствовал, что мне было бы лучше, если бы моя жена больше помогала мне, и я делился бы с ней своими мыслями, а я знал, что это могло бы быть.
Было ли то, что я переживал, общей и неизбежной участью? Или это выпало только на мою долго и могло быть иначе? Я колебался между этими двумя заключениями. Думая о неосуществимых юношеских грезах, я готов был пожалеть о том, что вырос из их поры, и счастливые дни, проведенные с Агнессой в милом старом доме, вставали предо мной виденьями невозвратного прошлого.
Иногда у меня мелькала мысль о том, что было бы, если бы мы с Дорой никогда не знали друг друга, но Дора так вросла в мою жизнь, что эта мысль сейчас же улетучивалась, как пух, уносимый ветром.
Я не переставал любить ее, а мысли и чувства, о которых я только что рассказал, не проявлялись ни в моих словах, ни в поступках. Я нес на себе тяжесть всех наших мелких забот и всех своих планов. Дора держала и подавала мне перья. И мы оба чувствовали, что каждый делает свое дело. Она искренне любила меня и гордилась мной. Когда Агнесса в письмах к ней говорила о том, с какой гордостью и интересом мои старые друзья следят за моей растущей славой и, читая написанные мною книги, как бы слышат меня, она с радостными слезами на глазах читала мне эти строки и называла меня «дорогим, умным и знаменитым мальчиком».
«Первый ложный порыв неопытного сердца…» эти слова миссис Стронг постоянно вспоминались мне в то время. Я часто просыпался с этими словами и даже читал их во сне на стенах домов. Я уже понимал, что и мое сердце было неопытно, когда я впервые полюбил Дору, и что будь оно тогда опытнее, я, женившись, никогда не испытал бы того, что переживал.
Также вспомнились мне и слова: «Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений…»
Я старался приспособить Дору к себе, но это не удалось, и мне оставалось лишь самому приспособиться к ней. Мне надо было делить с нею то, что было можно, и быть счастливым: надо было нести на своих плечах то, что я взвалил на них, и все-таки быть счастливым.
Вот как старался я дисциплинировать свое сердце, когда стал более сознательным, и второй год моего брака был много счастливее первого, и — что еще лучше — Дора сияла счастьем.
Но этот год не принес Доре здоровья. Я все надеялся, что ручки более легкие, чем мои, помогут сформировать характер Доры и что улыбка дитяти превратит мою жену-детку во взрослую женщину. Но этому не суждено было случиться: едва родившись, ребенок умер.
— Знаете, бабушка, — сказала однажды Дора, — когда я смогу снова бегать, как прежде, я заставлю и Джипа бегать, а то он становится совсем вялым и ленивым.
— Я подозреваю, моя дорогая, — ответила бабушка, спокойно работавшая возле нее, — что у него болезнь похуже лени: года, Дора.
— Вы думаете, что он стар? — удивилась Дора. — Как странно, что Джип может быть стар!
— Старость, детка, болезнь, которой с годами мы все подвержены, — весело заметила бабушка, — и теперь я это чувствую больше, чем прежде, уверяю вac.
— Но Джип, — сказала Дора, с состраданием глядя на него, — неужели даже маленький Джип может быть стар? Бедняжка!
— Я думаю, он еще долго проживет, Цветочек, — сказала бабушка, лаская Дору.
Дора нагнулась с кушетки, где лежала, поглядеть на Джипа, а тот, став на задние лапки, задыхаясь, старался вскарабкаться к ней.
— Зимой надо будет выстлать его дом фланелью, — продолжала бабушка, — и я не удивлюсь, если весной, когда зацветут цветы, он выйдет из него здоровехоньким. Эта милая собачка, я думаю, всегда найдет в себе силы, чтобы лаять на меня.
Дора помогла Джипу влезть на кушетку, и он тотчас же яростно залаял на бабушку и лаял тем ожесточеннее, чем больше смотрела на него бабушка сквозь свои очки.
Дора с трудом уложила его возле себя и, когда он успокоился, стала гладить его длинные уши, задумчиво приговаривая: «Даже маленький Джип… Бедняжка!»