В течение двадцати трех часов из каждых двадцати четырех Дэн был самым уравновешенным человеком из всех, когда-либо рождавшихся на свет. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что в остальное время он может быть раздражительным, злобным и даже неблагодарным. Поначалу, по доброте душевной, я давал ему рекомендации и советы; объяснял, почему, на мой взгляд, в подливке были комочки, а соус майонез отдавал вазелином. И что я получал в награду? Насмешки, оскорбления и брань; а если я оказывался недостаточно увертлив, то и гнилой помидор или порцию остывшей кофейной гущи — что оказывалось под рукой. Опечаленный и удрученный, я удалялся; он ногой захлопывал за мной дверь. Злейшим своим врагом он считал плиту. Она умышленно расстраивала все его лучшие планы. По вине плиты булочки-снежки всегда выходили, как из красного гранита, а макароны с сыром — как из кембрийской глины. Ему можно было бы и посочувствовать, будь он более сдержан на язык. А так — крепость его выражений просто-таки заставляла принять сторону плиты.
Что касается нашей горничной, то тут я не могу не дать самого хвалебного отзыва. Бывают, увы! неугомонные горничные — кто таких не знавал и не страдал от них — которые вечно перебарщивают, не дают покоя, не чувствуют, когда лучше не перегибать палку, а оставить все, как есть. Я всегда считал, что не давать пыли улечься, — это ошибка, с научной точки зрения. Если ее не трогать, она безвредна, даже можно ее считать чем-то вроде нежного комнатного цветка, придающего уютный облик предметам, которые без нее выглядели бы холодными и отталкивающими. Пусть себе лежит. Зачем надо ее все время тревожить, подымая в воздух тучи болезнетворных микробов? Природа в бесконечной мудрости своей распорядилась, чтобы она оседала на столы, под, рамы картин. Там пусть и остается, тихая и безобидная; там она и остается, пока никто не начнет ее вздымать, а кому это надо? То же самое и насчет крошек, кусочков яичной скорлупы, обрывков веревочек, обгоревших спичек, окурков — где им лучше, чем под ближайшим половиком? Сметать их с пола чересчур утомительно. Они цепляются за ковер, вы на них злитесь, проклинаете за упрямство и стыдитесь собственного ребячества. На каждую соринку, которую удается загнать в совок, две выпадают. Вы выходите из себя и начинаете ненавидеть того, кто их обронил. Характер у вас портится. А под половик они залезают охотно. Компромисс — вот истинная государственная мудрость. Придет день, когда вы будете рады поводу не делать что-то такое, что вы должны сделать. Тогда можно будет приподнять половики и почувствовать себя действительно загруженным работой человеком, имея в виду, сколько еще подвигов вам предстоит как-нибудь совершить.
Женщины же не способны отличить существенное от несущественного. Во имя здравого смысла, что проку мыть чашку, когда через полчаса она снова будет грязная? Если кошка хочет и может так вычистить тарелку, что на ней ни жиринки не останется, зачем лишать животное удовольствия поработать? Если постель выглядит убранной и чувствует себя таковой, значит, с практической точки зрения, она убрана; зачем ее ворошить, чтобы потом снова разглаживать? Да любая женщина поразилась бы, если бы узнала, сколько работы по дому можно не делать.
Навыков в шитье, каюсь, я так и не приобрел. Дэн-то научился обращаться с наперстком, а вот мой собственный безымянный палец никак не хотел выходить вперед, когда требовалось. Его еще надо было поискать, убрав с дороги все остальные. Потом он, волнуясь и нервничая, пытался подтолкнуть иголку, соскальзывал, сильно укалывался и, вконец перепугавшись, отказывался от всяких дальнейших попыток. Более удобным оказалось проталкивать иголку с помощью двери или стола.
Опера, как Дэн и предсказывал, шла до следующего сезона. Когда она выдохлась, ее место заняла другая, с Пучеглазиком в одной из главных ролей, и имела еще больший успех. После пережитого мною на площади Нельсона моё теперешнее жалованье — тридцать пять, а порой и сорок шиллингов в неделю — казалось королевским. Я уже начал подумывать о карьере великого оперного певца. Фунтов так на шестьсот в неделю, я думал, прожить смогу. Но О'Келли сделал все, чтобы развеять эти мечты.
— Ты ошибаешься, мальчик мой, — объяснил О'Келли. — Только зря потратишь время, Я бы так не говорил, не будь я уверен.
— Я знаю, голос несильный, — признал я.
— Скажи лучше — слабый, — добавил О'Келли.
— Но, может, для комической оперы сойдет, — заспорил я — Ведь добивались же люди успеха в комической опере и без особого голоса!
— Точно, это ты прав, — согласился О'Келли, вздохнув, — И конечно, если бы ты исключительно хорошо выглядел и был сказочно красив…
— С помощью грима можно многого добиться, — предложил я.
О'Келли покачал головой.
— Нет, это все не то; тут много еще от игры зависит.
Я мечтал стать вторым Кином, занять место Макреди. И это не обязательно должно мешать моим литературным планам. Я вполне смогу совмещать эти два занятия: по вечерам срывать аплодисменты в театре Друри-Лейн, по утрам выпускать эпохальные романы и писать самому себе пьесы.
Каждый день я занимался в читальном зале Британского музея. Пресытившись успехами в искусствах, со временем я, может быть, стану членом Парламента — или премьер-министром, досконально знающим историю? Почему бы и нет? Руководствуясь Оллендорфом, я продолжал изучать французский и немецкий. Не исключено, что к старости мне понравится дипломатическая работа, — скажем, в ранге посла! Это будет достойным завершением блестящей карьеры.
Моему оптимистическому настроению в этот период имелось оправдание. Все у меня шло хорошо. Один из рассказов был принят. Сейчас я даже не помню название журнала; его давно нет. Да и большинства тех газет, в которых появлялись мои ранние опыты, уже нет. Мои произведения, наверно, были для них чем-то вроде лебединой песни. Мне присылали гранки, которые я правил и возвращал. Но гранки — это еще не все. Со мной так уже один раз было — я вознесся до небес только затем, чтобы больнее упасть Газета закрылась, не успев напечатать мой рассказ (Ах! Что же они медлили? Ведь это могло их спасти!)… На этот раз я не забывал пословицу и был себе на уме, хотя и выскакивал с раннего утра на улицу в день выхода журнала, покупал номер и жадно пробегал столбцы. Несколько недель я страдал от несбыточной надежды. Но наконец, ясным зимним утром, прогуливаясь по Хэрроу-роуд, я внезапно встал как вкопанный перед маленькой газетной лавчонкой. Впервые в жизни я увидел свое имя напечатанным: «Пол Келвер. Моэль-Сарбодская колдунья. Легенда» (Ведь ради этого я шел на риск, что леди Ортензия отыщет меня). Едва переступая дрожащими ногами, я вошел в лавку. Зловещего вида человек в грязной рубахе был настолько потрясен тем, что кто-то собирается купить у него это, что в конце концов разыскал для меня один экземпляр на полу под прилавком. Засунув его в карман, я пошел обратно, словно во сне. Найдя в Паддингтонском сквере скамеечку, я уселся и принялся читать. Сто лучших книжек! Я их все проштудировал; и ни одна так не порадовала меня, как один коротенький рассказ в давно забытом журнале. Стоит ли сообщать, что сочинение было грустное и сентиментальное. В давние-предавние времена жил-был могущественный король, некто… нет, именами я вам докучать не буду, все равно их невозможно выговорить. Чтобы их подобрать, я много часов провел в Читальне Британского музея, обложившись словарями валлийского языка, справочниками, переводами из древних кельтских поэтов, с примечаниями. Он любил прекрасную принцессу, чье имя в переводе означало Невинность, и она любила его. Однажды король заблудился во время охоты и, устав, прилег отдохнуть. По воле случая, он уснул неподалеку от того места, которое я с невероятным трудом, при помощи увеличительного стекла, обнаружил на карте, и название его по-английски — Пещера вод, где жила злая волшебница, околдовавшая его, пока он спал, так что, проснувшись, он позабыл и о своей королевской чести, и о благе народа, воспылав страстью к Моэль-Сарбодской колдунье.
Вот, а у моря в этом королевстве жил великий волшебник, и Невинность, любившая короля значительно больше, чем самое себя, вспомнила о нем и о том, что она слышала о его могуществе и мудрости, и отправилась к нему, и попросила помощи, чтобы спасти короля. Добиться этого можно было только одним способом. Босиком Невинность должна была взобраться по каменистой тропке к жилищу колдуньи, бесстрашно приблизиться к ней, не убоявшись ни острых когтей, ни крепких зубов, и поцеловать в губы. Тогда дух Невинности проникнет в душу ведьмы, и она станет женщиной. Но дух и облик колдуньи перейдут к Невинности, преобразив ее, и она навеки должна будет остаться в Пещере вод, Итак, Невинность пожертвовала собой ради жизни короля. Сбив ноги в кровь, она поднялась по каменистой тропе, заключила колдунью в объятья, поцеловала ее в губы — и колдунья превратилась в женщину, и они с королем долгие годы правили королевством мудро и добродетельно. Но Невинность превратилась в ужасную ведьму и по сей день обитает на Моэль-Сарбод. И те, кто взберется по склону горы, за ревом водопада могут расслышать плач Невинности, невесты короля. Но многим там слышится радостная песнь торжествующей любви.
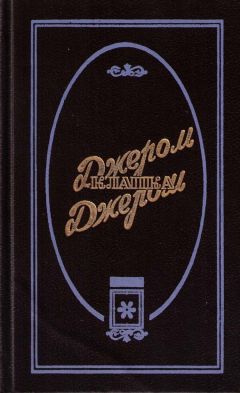
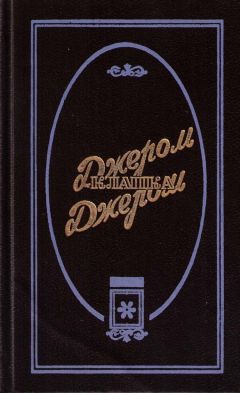


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
