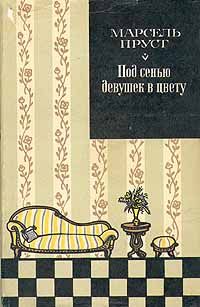— Нет, не говорите, это шикарно. Ведь это были де Говожо, правда? Я их сразу узнала. Она маркиза. Настоящая. Не по женской линии.
— О, это женщина очень простая, прелестная, без всяких ломаний. Я думал, вы подойдете, делал вам знаки… я бы вас познакомил! — добавил он, легкой иронией умаляя чрезмерность своей любезности, совсем как Артаксеркс, когда он говорит Есфири: «Уж не полцарства ли тебе отдать я должен?»
— Нет, нет, нет, нет, мы, как скромные фиалки, любим тень.
— Ну и напрасно, еще раз говорю, — расхрабрившись, когда опасность миновала, возразил старшина. — Они бы вас не съели. А как насчет партийки в безик?
— Мы-то с удовольствием, но только не решались предложить, — ведь вы теперь знаетесь с маркизами!
— Да перестаньте! Это обыкновенные люди. Погодите! Завтра я у них ужинаю. Хотите поехать вместо меня? Я не кривлю душой. Откровенно говоря, я бы предпочел остаться.
— Нет, нет… Меня тогда сместят как реакционера! — воскликнул председатель и потом до слез хохотал над своей же шуткой. — А вы ведь тоже бываете в Фетерне? — обратился он с вопросом к нотариусу.
— Ну, я только по воскресеньям, покажусь, и до свиданья. И у меня они не завтракают, как у старшины.
Старшина очень жалел, что в тот день г-на де Стермарья не было в Бальбеке. Но он с лукавым видом обратился к метрдотелю:
— Эме! Вы можете сказать господину де Стермарья, что в этой столовой бывает и еще кое-кто из знати. Вы видели, что сегодня со мной завтракал один господин? Маленькие усики, военная косточка? А? Ну так вот, это маркиз де Говожо.
— Ах, вот оно что? Впрочем, меня это не удивляет.
— Пусть господин: де Стермарья убедится, что он здесь не единственный титулованный. Пусть съест. Иногда не мешает сбить спесь со знатных господ. Знаете что, Эме: как хотите, можете ничего ему не говорить, я ведь это между прочим; ему и так все известно.
А на другой день г-н де Стермарья по случаю того, что старшина защищал его друга, пришел познакомиться с ним.
— Наши общие друзья, де Говожо, собирались нас всех позвать, но вышла какая-то путаница с днями, — сказал старшина; как большинство лгунов, он воображал, что никто не станет выяснять незначительную подробность, достаточную тем не менее (в случае, если вам известно, что она не соответствует неприукрашенной действительности) для того, чтобы раскрыть характер человека и раз навсегда внушить к этому человеку недоверие.
По обыкновению, но только чувствуя себя сейчас свободней, потому что ее отец пошел поговорить со старшиной, я смотрел на мадмуазель де Стермарья. Смелая и неизменно прекрасная необычность поз, как, например, в то мгновенье, когда, поставив локти на стол, она поднимала стакан на высоту предплечий, холодность быстро гасшего взгляда, врожденная фамильная черствость, которая слышалась в ее голосе и которую не могли скрыть характерные для нее модуляции, черствость, коробившая мою бабушку, нечто вроде наследственного тормоза, к которому она всякий раз прибегала, выразив взглядом или интонацией свою собственную мысль, — все наводило следившего за ней глазами на размышление о предках, от коих она унаследовала жесткость, нечуткость, стесненность, как будто на ней было узкое платье, которое ей жало. Но блеск, пробегавший в глубине холодных ее зрачков, светившихся иногда почти покорною нежностью, какую всесильная жажда чувственных наслаждений вызывает в душе самой гордой из женщин, которая скоро будет признавать над собой только одну власть — власть мужчины, способного доставить ей эти наслаждения, будь то комедиант или паяц, ради которого она, может быть, бросит мужа; но чувственно розовый и живой румянец, расцветавший на бледных ее щеках и напоминавший алость в чашечках белых кувшинок Вивоны, как будто подавали мне надежду, что я легко добьюсь от нее позволения испытать с нею радость поэтичной жизни, какую она вела в Бретани, жизни, которою она, то ли потому, что уж очень привыкла к ней, то ли в силу врожденной требовательности, то ли в силу отвращения к бедности или скупости родных, по-видимому, не особенно дорожила, но которая все же была заключена в ее теле. В скудных запасах воли, доставшихся ей по наследству и сообщавших выражению ее лица какую-то вялость, она, пожалуй, не смогла бы почерпнуть силы для сопротивления. А когда она появлялась к столу в неизменной серой фетровой шляпе с довольно старомодным и претензиозным пером, она казалась мне особенно трогательной, и не потому, что цвет шляпы шел к ее серебристо-розовому лицу, а потому, что я думал тогда о ее бедности, и мысль эта приближала ее ко мне. Присутствие отца обязывало ее придерживаться условностей, и все же, рассматривая и классифицируя людей с иной точки зрения, чем ее отец, во мне она, быть может, видела не скромное общественное положение, а пол и возраст. Если б г-н де Стермарья как-нибудь оставил ее в отеле одну или если б, — это было бы еще лучше, — маркиза де Вильпаризи подсела к нашему столу и тем настолько изменила бы ее мнение о нас, что я отважился бы подойти к ней, быть может, мы обменялись бы двумя-тремя словами, уговорились бы о свидании, сблизились бы. А если б ей пришлось прожить целый месяц без родителей в своем романтическом замке, может быть, мы бы с ней вдвоем гуляли в вечернем полумраке, когда не так ярко горят над потемневшей водой, под сенью дубов, о которые разбивается плеск волн, розовые цветы вереска. Вместе обошли бы мы этот остров, исполненный для меня особого очарования, оттого что на нем шли будни мадмуазель де Стермарья и его всегда хранила зрительная ее память. Мне казалось, что я мог бы подлинно обладать ею только там, обойдя места, окутывавшие ее столькими воспоминаниями — покрывалом, которое мое влечение к ней стремилось сорвать, одним из тех покрывал, которые природа опускает между женщиной и другими существами (с той же целью, с какою она ставит между всеми существами и самым острым из наслаждений акт размножения и с какою заставляет насекомых собрать пыльцу, прежде чем упиться нектаром) для того, чтобы, обманутые надеждой на более полное обладание, они овладели сначала местностью, где она живет и которая сильнее воспламеняет их воображение, нежели страсть, хотя сама по себе, без помощи страсти, местность не могла бы их притянуть.
И все же мне пришлось отвести взгляд от мадмуазель де Стермарья, так как, полагая, видимо, что знакомство с важным человеком есть действие любопытное, короткое, имеющее самостоятельную ценность, требующее для того, чтобы выжать весь содержащийся в нем интерес, только рукопожатия и проницательного взгляда, не нуждающееся ни в завязывании разговора, ни в поддерживании отношений, ее отец уже оставил в покое старшину и сел против нее, потирая руки с видом человека, только что сделавшего ценное приобретение. А до моего слуха временами долетал голос старшины: едва волнение от встречи в нем улеглось, он, обращаясь, как всегда, к метрдотелю, заговорил:
— Но я же ведь не король, Эме; ну так и идите к королю. Как вы находите, председатель? На вид эти форельки очень недурны, вот мы сейчас их и попросим у Эме. Эме! Вон та рыбка, по-моему, вполне приемлема. Принесите-ка нам ее, Эме, да побольше.
Он все время называл метрдотеля по фамилии, так что, когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему:
«Вы, я вижу, тут свой человек», — и тоже считал необходимым повторять «Эме», придерживаясь правила, которому следовал не он один и в котором смешались робость, пошлость и глупость: будто бы во всем подражать людям, в чьем обществе они находятся, — это и умно и изящно. Старшина беспрестанно называл метрдотеля по фамилии, но с улыбкой: ему хотелось подчеркнуть, что он в хороших отношениях с метрдотелем, но вместе с тем смотрит на него сверху вниз. А метрдотель, всякий раз, как произносилась его фамилия, улыбался умиленной и тщеславной улыбкой, показывая, что он гордится честью и понимает шутку.
Я всегда робел в огромном, обычно переполненном ресторане Гранд-отеля, но особенно мне становилось не по себе, когда приезжал на несколько дней владелец (а может быть, главный директор, избранный акционерной компанией, — наверное сказать не могу) не только этого отеля, но и еще не то семи, не то восьми, которые находились в разных концах Франции и в каждом из которых он, объезжая их, останавливался на неделю. Тогда каждый вечер, почти в начале трапезы, у входа в столовую появлялся этот маленький человечек, седой, * красноносый, совершенно невозмутимый и необычайно корректный, которого, по-видимому, так же хорошо знали в Лондоне, как и в Монте-Карло, и везде считали одним из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Однажды я на минутку вышел из столовой, а когда, возвращаясь, проходил мимо него, он поклонился мне, чтобы подчеркнуть, что я его гость, но до того сухо, что я так и не понял, чем эта сухость вызвана: сдержанностью человека, не забывающего, кто он такой, или презрением к незначительному посетителю. Лицам очень значительным главный директор кланялся так же сухо, но ниже, опуская глаза как бы в знак стыдливого почтения, словно при встрече на похоронах с отцом усопшей или при виде святых даров. За исключением этих редких, ледяных приветствий, он не делал ни одного движения, как бы давая понять, что горящие его глаза, словно готовые выскочить из орбит, все видят, везде наводят порядок, обеспечивают во время «обеда в Грандотеле» не только безукоризненность деталей, но и стройность ансамбля. Он явно ощущал себя больше чем режиссером, больше чем дирижером — настоящим генералиссимусом. Он верил, что если довести созерцание до предельной напряженности, то все будет в полном порядке, что не будет допущено самомалейшей оплошности, которая могла бы повлечь за собою разгром, и, беря на себя всю ответственность, он воздерживался не только от движений — он даже не водил глазами: замерев от сосредоточенности, его глаза охватывали и направляли всю совокупность действий. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и хотя бы он исчезал сразу после супа, произведенный им смотр портил мне аппетит на все время обеда. А у него аппетит был отличный — это он доказывал за завтраком, сидя в столовой как частное лицо и занимая такой же столик, как и все. Его столик имел только одну особенность: пока главный директор ел, другой, всегдашний директор, стоя, все время что-то ему говорил. Он был его подчиненным и оттого заискивал перед ним и безумно боялся его. А я за завтраком не очень его боялся: затерянный среди посетителей, он был тактичен, как генерал в ресторане, делающий вид, что не замечает сидящих тут же солдат. И все же, когда швейцар, окруженный своими «посыльными», сообщал мне: «Завтра утром он уезжает в Динар. Оттуда — в Биарриц, а потом — в Канн», — мне становилось легче дышать.