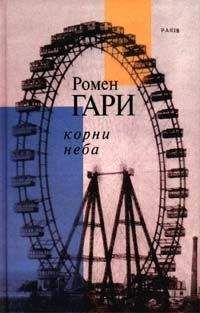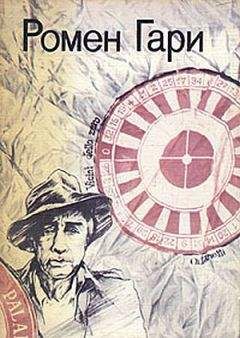Ознакомительная версия.
Филдс не стал уточнять, кто такие «они», для него это слово не нуждалось в определении. В нем наконец снова заговорил профессиональный инстинкт, который напомнил, что вот готовенькая тема для репортажа; он сделал еще парочку снимков Форсайта и начал задавать тому вопросы. Форсайт отвечал довольно нервно:
– Вы знаете, что я отказался остаться в Китае и потребовал, чтобы меня репатриировали…
И знаете, как меня встретили. Не было ни одной газеты, не напечатавшей моей фотографии с теми самыми комментариями… Меня с позором выгнали из армии, и я укрылся в Чаде, чтобы обо мне забыли; к тому же мне пришлось выехать нелегально через Мексику, потому что мое государство, отринув меня, отказывало даже в паспорте, необходимом, чтобы покинуть его пределы. Большую часть времени я пьянствовал. Классическое падение, как видите, все ниже и ниже… Я не сгущаю краски. Отец выплачивал небольшую сумму с условием, чтобы обо мне больше не было слышно; у нас на Юге сильно развито чувство чести. В ФортЛами жить тоже было не очень приятно: как-то раз пришлось двинуть в морду молодчику, предложившему мне выпить, чтобы «забыться»… Потом настал день, когда тот же тип снова предложил меня угостить, правда, молча, с улыбкой, и я согласился; денег на выпивку не хватало. Добрыми были только черные, они смеялись, но не надо мной, просто у них такое отношение к жизни. Короче говоря, дела мои были плохи. И вот тогда Морель пришел ко мне со своей петицией. Да как же было не подписать! Разве кто-нибудь на всем белом свете мог понять его лучше, чем я? Легче всего сказать, что меня обманули коммунисты и что стоит только избавиться от коммунистов, как… и так далее. Там, в Корее побывала ученая комиссия, сотни людей с международной репутацией, разного возраста и из разных стран, доказавшая как дважды два офицерику двадцати пяти лет от роду, каким я тогда был, что его армия распространяла среди мирного населения чуму и халеру, – вот вам в доказательство зараженные мухи… У них были человеческие лица – честные, открытые, с человеческими морщинами, и человеческие глаза смотрели на меня и просили, чтобы я выполнял свой человеческий долг, обличив это преступление… А, пускай будут коммунисты, фашисты, демократы или Бог знает кто еще… Это были люди. Я сказал по радио то, чего от меня хотели. А когда вернулся в Штаты, мне доказали как дважды два, что во всем том не было ни слова правды. Пропаганда, «холодная война»… Я должен был знать, что армия, в которой служу, не способна на подобную низость. И снова передо мной были человеческие лица, суровые, достойные; ученые с мировой репутацией, международные ареопаги… Но странное дело, меня это уже не трогало. Виноваты ли американцы или коммунисты, – какая разница? Главное, что опозорен, вымазан с головы до ног грязью человек. Началось все давно, и конца пока не видно. Не лучше и не хуже, чем мо-мо или Гитлер с евреями, то же самое, те же дела человеческие, которым не видно конца… Да, я отлично понял, что хотел крикнуть Морель. Я ему помог. Когда стало ясно, что даст его петиция, то есть абсолютно ничего, всеобщее насмехательство, мы стали копить оружие… Что было дальше, вы знаете… А теперь мы тут…
Филдс кивнул, показывая, что все понял. Он обшарил карманы в поисках сигарет, но вспомнил, что отдал их Форсайту, жестом попросил у Форсайта одну; тот даже заподозрил, что Филдс его не слушал. Бывший летчик испытывал к журналисту инстинктивное почтение, этот человечек только что пережил страшную авиационную катастрофу, а он видел, как тот спокойно возится со своими очками и камерой, пробираясь между слонами, словно переходит улицу. Правда, его, вероятно, закалила профессия. Чего только этот человек не насмотрелся!
Наверное, еврей, решил Форсайт, украдкой разглядывая лицо репортера. И выражение глаз какое-то необычное. Внезапно ему подумалось, что возле Мореля с самого начала не было ни одного еврея. Он рассказал журналисту, что они тут, на Куру, уже десять дней, после вылазки в Сионвилль, организованной с целью привлечь внимание всего мира к конференции по защите африканской фауны в Букаву, живут в пустых соломенных хижинах рыбацкой деревни племени каи, которую жители оставили во время наводнения 1947 года; им помогли устроиться на возвышенности в западном конце озера. Морель два дня назад отправился в Гфат, где сходятся верблюжьи тропы между Чадом и Суданом по ту сторону границы.
Единственный торговец в тех краях, говорят, имеет радио, и Морель надеется хоть что-нибудь узнать о результатах только что закончившейся конференции.
– Он убежден, что там примут необходимые меры, а если так и будет, намерен сдаться властям. И уверен, что французский суд его с триумфом оправдает. Вероятно, он себя обманывает. Не знаю.
Форсайт помолчал, а потом не без смущения добавил, что лично он рассчитывает вернуться в Соединенные Штаты, как только будет возможно. Филдс и на сей раз воздержался от замечаний. Они дошли до противоположного края отмели, и Филдс издали узнал женщину, ожидавшую за хижинами, возле лошадей. Он остановился и, прежде чем подойти, сделал снимок. Он много слышал о Минне в «Чадьене» и с любопытством разглядывал любительские фотографии, сделанные местными, которые они охотно показывали; в общем, она возбуждала в нем живой интерес, но сейчас он почувствовал себя обманутым. Эта женщина была довольно красива, но красотой скорее банальной, только линии плотно сжатых пухлых губ выражали что-то трогательное и страдальческое; в ней трудно было предположить такую злопамятность или человеконенавистничество, которые заставили бы ее везти оружие и боеприпасы тому, кого окрестили «врагом рода человеческого». Она сказала Филдсу, что видела с отмели, как самолет потерпел аварию, но у нее не хватило мужества подойти. Она думала, что все, кто там был, погибли сразу, и покачала головой, глядя на Филдса с каким-то недоверием, словно сомневаясь, что он действительно невредим. Филдс объяснил, что пилот погиб, а сам он не пострадал. (Рентген в больнице Форт-Лами показал, что у него сломаны три ребра.) Он говорил с ней по-немецки, все время высматривая выгодную точку для фото; попросил снять фетровую шляпу на ремешке у подбородка и сделал снимок; фоном служили неподвижно стоявшие в огромном зеркале миражей слоны, скалы с торчащими тростниками и белые аисты… «Сойдет», – подумал он, вставляя новую пленку. Пока он работал, Минна с жаром и глубоким сочувствием рассказывала о страданиях животных, и Филдс удивлялся, как эта девушка не ощущает всей необычности их встречи посреди первобытного пейзажа, при том, какое любопытство вызывает ее поступок во всем мире: позже он скажет, что ни минуты не чувствовал себя в обществе террористов, они казались ему членами какой-то мирной научной экспедиции, озабоченными только своей миссией.
– Пожалуй, надо заняться вашим товарищем, – сказал Форсайт. – В такую жару…
Филдс пообещал помочь, как только сделает еще несколько снимков. Он умирал от желания добраться наконец до Мореля, но ему пришлось запастись терпением; он с радостью согласился на предложение Минны поздороваться с Пером Квистом и пытался припомнить все, что слышал о датском натуралисте, чей широко известный дурной характер и мизантропия на сей раз нашли удобную отдушину в защите слонов. Отзывы о том были самые разные, одни предполагали, что под внешностью патриарха скрывается душа дешевого комедианта, жаждущего популярности, другие считали датчанина человеком искренним, но сумасшедшим; третьи вспоминали, что он был одним из главных инициаторов Стокгольмского воззвания о запрете атомного оружия, участвовал в войне в Испании, а потом был посажен в тюрьму Гитлером, – эти люди видели в нем только пособника коммунистическим проискам. (Позднее Филдс имел возможность задать Перу Квисту вопрос по поводу подписи под Стокгольмским воззванием. Натуралист ответил, что им двигал ужас перед последствиями влияния радиации на флору и фауну. И дело не только в ядерном оружии, но и в «отходах» служивших мирным целям атомных реакторов, которые – отходы – неопределенно долгий срок сохраняют свои губительные свойства в воздухе и в морской воде, грозя гибелью морской фауне и птицам.) Пока они шли по песку к соломенной хижине датчанина, – Филдс заметил, что эти люди, видимо, предпочитали селиться на расстоянии друг от друга, что показалось ему странным.
– Минна объяснила, что в такую сушь вода испаряется настолько быстро, что в озере будто происходит отлив. Выходишь утром, а впечатление такое, как если бы тростники, отмели и скалы словно выросли за ночь. Стоит взглянуть, какими измученными приходят животные к Куру, – несколько дней они даже двигаться не могут и ничего не едят, – чтобы представить себе, что делается в других местах…
– Schrecklich! – воскликнула она. – Schrecklich! .
Филдс произнес несколько подобающих слов. Он не мог сказать, что питает такое уж пристрастие к животным. Ему иногда хотелось купить собаку, но забота о той никак не сочеталась с непоседливой репортерской жизнью; как-то раз, в Мексике во время боя быков, он вдруг горячо пожелал смерти матадору, так его возмутил вид заколотого шпагой быка.
Ознакомительная версия.