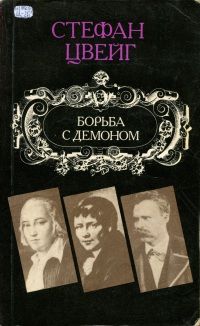Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном, выражается какое-то тайное намерение. И во-вторых, в области сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательного. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: "Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию", то сознательным его намерением было, правда, сказать "высокой", но в глубине своей души он думал "низкой". Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выбалтывает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искушенная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у ней намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: "Если бы только скорее добраться до панталон и сбросить все!" - то кто же не поймет того, что поначалу она хотела высказаться полнее и сообщить наивно, что у нее намокли блуза, рубашка и панталоны[283]. Понятие "панталоны" было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом растерянности, в следующей фразе в качестве "ошибочного действия". При обмолвке высказывают то, чего, собственно, не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть. Теряют то, что хотели потерять. Ошибочное действие почти всегда означает признание и улику против самого себя.
Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило, в ряду его наблюдений, наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательного, слишком малочисленными и слишком рассеянными во времени, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд, с присущей ему жаждой наблюдательности, нащупывает, конечно, исходя отсюда, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же "бессмысленных" явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно так же слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей. Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически безупречным путям нашей мозговой системы: "сновидения - пена". В глазах людей это - ничто, расцвеченная, как мыльный пузырь, пустота без цели и без смысла, мираж в крови; их содержание ничего не "означает". Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими лживыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.
Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою волю не наше бодрствующее "я", а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам "даны", вложены в нас какой-то высшей силою. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная или - если отважиться на это слово - какая-то сверхличная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно толкование: боги! ибо кто же, кроме них, обладал даром превращения и высшею силою? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждою и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что внемлют в этих ночных откровениях священным, более того, божеским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались уразуметь человеческим своим умом божественный язык "сновидения", чтобы постигнуть в нем волю божества.
Так на заре человечества, в качестве одной из самых ранних наук, возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием, по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантасмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.
Новая эмпирическая наука, само собой разумеется, резко порывает с этим воззрением, как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны - это хаос, по неимению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенное тональности, дисгармоническое последействие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок не переваренных за день впечатлений, который уносится мутной волною сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковать не поддающееся толкованию.
Только с появлением Фрейда - по прошествии двух-трех тысячелетий сновидение получает опять объективную ценность, как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей via regia[284], большой дорогой, связывающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему мы можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них, как полноценному душевному акту, присущ определенный смысл. В каждом проявляет себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык. Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротою мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу - преобразовать язык сновидений в язык мысли - берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях "я" идентично нашему "я" бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим "с быстротою сновидения"), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше "я" одновременно и младенец, и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшний, суммарное "я", итог не только текущей, но и прожитой жизни, между тем как наяву мы воспринимаем единственно наше мгновенное "я". Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном, мы являем собою совокупность нашей личности, былое и настоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного "я", а вверху, в ясном, режущем свете дня - только сознательное, преходящее "я". И эта универсальная, но смутная жизнь сообщается с нашим преходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме - сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Потому-то подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глуби своих сновидений, догадывается поистине о том итоге пережитой и преходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.