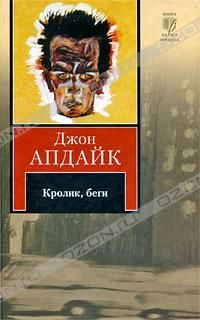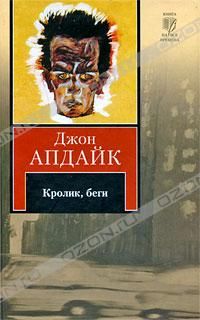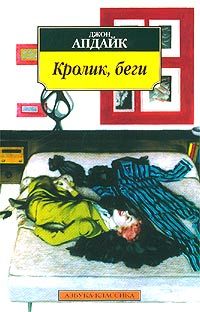— Это она тебе рубашку разорвала?
Однако странно, что они ничего о нем не знают, кроме того, что у него растерзанный вид. Ты поступаешь так, поступаешь иначе, и никто ни о чем понятия не имеет. Часы показывают без двадцати шесть. Он подходит к автомату, висящему на коричневой стене, и отыскивает в телефонной книге номер Экклза.
— Алло? — сухо отвечает жена Экклза.
Кролик закрывает глаза, и в красноте под веками пляшут ее веснушки.
— Привет. Не могу ли я поговорить с преподобным Экклзом?
— Кто спрашивает? — Голос звучит надменно — она прекрасно знает кто.
— Это Гарри Энгстром. Джек дома?
На том конце провода вешают трубку. Вот сука! Бедняга Экклз наверняка сидит там сердце кровью обливается ждет что я позвоню а она идет к нему и говорит не туда попали. Жалкое ничтожество женат на такой суке. Он тоже вешает трубку, слышит, как, звякая, проваливается десятицентовик, и чувствует, что благодаря этой неудаче все стало значительно проще. Он пересекает стоянку автомашин.
Позади, в кафетерии, остался весь яд, которым она наверняка набивает уши несчастному усталому парню. Он представляет себе, как она рассказывает Экклзу про его шлепок, явственно слышит смех Экклза и сам улыбается. Он всегда будет вспоминать Экклза смеющимся, в нем было что-то, что держало человека на расстоянии, наверно, это его манера говорить в нос, но когда он смеялся, он становился свойским парнем. Если подобраться к нему сзади, обойдя унылый липкий фасад. Особенное уныние вызывала его неуверенность вместо того чтобы сказать прямо, что он думает, он только шевелил бровями и произносил все слова на разные голоса. В конечном итоге неплохо от него избавиться.
С автостоянки открывается вид на Бруэр — он расстилается внизу, как пыльный рыжий ковер. Кое-где уже зажглись огни. Большой неоновый подсолнечник в центре города кажется маленькой маргариткой. Теперь тучки внизу порозовели, но наверху, под самым небосводом, все еще висят бледные и чистые хвосты перистых облаков.
Он спускается с горы по бревенчатым ступеням, проходит через парк, где еще играют в теннис, идет вниз по Уайзер-стрит, надевает пиджак и поднимается на Летнюю улицу. Сердце бьется в тревожном ожидании, но теперь оно, по крайней мере, на месте, посередине груди. Кривая петля, образовавшаяся у него внутри из-за Бекки, исчезла; он водворил свою дочь на небо, он чувствует, что она уже там. Если бы Дженис тоже это чувствовала, он бы, может, и остался. Или нет? Наружная дверь открыта, и старушка, повязанная платком на польский манер, бормоча что-то себе под нос, выходит из квартиры Ф. — Кс. Пеллигрини. Он нажимает кнопку звонка Рут.
Зуммер отвечает, он быстро распахивает внутреннюю дверь и взбегает вверх по ступенькам. Рут выходит на площадку, смотрит вниз и говорит:
— Уходи.
— Гм? Откуда ты узнала, что это я?
— Возвращайся к своей жене.
— Не могу. Я только что от нее ушел.
Она смеется; он взобрался на предпоследнюю ступеньку, и теперь их лица на одном уровне.
— Ты только и делаешь, что от нее уходишь.
— Нет, на этот раз все по-другому. Все ни к черту не годится.
— Ты сам ни к черту не годишься. Со мной у тебя тоже ни черта не вышло.
— Почему? — Он уже на последней ступеньке и стоит в каком-нибудь ярде от нее, взволнованный и беспомощный. Он думал, что, когда ее увидит, инстинкт подскажет ему, как надо поступать, но, хотя прошло всего несколько недель, все почему-то стало иначе. Она изменилась, движения стали более сдержанными, талия располнела, синие глаза уже не кажутся пустыми.
Она смотрит на него с презрением, которое для него совершенно ново.
— Почему? — повторяет она немыслимо жестким тоном.
— Хочешь, я угадаю, — говорит он. — Ты беременна.
Удивление на миг смягчает жесткость.
— Вот здорово, — говорит он и, воспользовавшись минутной слабостью, пытается втолкнуть ее в комнату. Толчок пробуждает воспоминание о том, каким было ее тело у него в руках.
— Здорово, — повторяет он, закрывая дверь. Он хочет ее обнять, но она отталкивает его и отступает за кресло. Дело серьезное — она поцарапала ему шею.
— Уходи, — говорит она. — Уходи.
— Разве я тебе не нужен?
— Нужен? Ты? — кричит она.
От напряженно-истерических ноток лицо его болезненно искажается; он чувствует, что она так часто представляла себе эту встречу, что твердо решила сказать все, а это будет слишком много. Он садится в кресло. У него болят ноги.
— Ты был мне нужен в ту ночь, когда ушел, — говорит она. — Помнишь, как ты был мне нужен?
— Она была в больнице, — отвечает он. — Я должен был идти.
— О Господи, какой ты умный. О Господи, какой ты святой. Ты должен был идти. Но ведь ты должен был и остаться. Знаешь, я была настолько глупа, что ждала хотя бы звонка.
— Я и хотел позвонить, но я пытался начать все сначала. Я не знал, что ты беременна.
— Не знал? Как это так не знал? Ребенок — и то бы догадался. Меня все время тошнило.
— Когда я был здесь?
— О Господи, конечно. Почему бы тебе когда-нибудь не выглянуть из своей драгоценной шкуры?
— Но почему же ты мне не сказала?
— А зачем? Какой от этого толк? От тебя все равно никакой помощи ждать не приходится. Ты пустое место. Знаешь, почему я не сказала? Смешно, но я боялась, что, если ты узнаешь, ты меня бросишь. Ты никогда не позволял мне принять меры, но я решила, что раз это случилось, ты меня бросишь. Но ты все равно меня бросил. Почему ты не уходишь? Пожалуйста, уходи. Я и в первый раз просила тебя уйти. В тот чертов первый раз. Просила. Чего тебе тут надо?
— Я хочу тут быть. Так будет правильно. Слушай, я очень рад, что ты беременна.
— Слишком поздно радоваться.
— Почему? Почему слишком поздно? — Он испугался, вспомнив, что в прошлый раз ее не было дома. Теперь она здесь, а тогда ее не было. Он знает, что женщины уходят из дома, чтобы это сделать. В Филадельфии есть такое место.
— Как ты можешь тут сидеть? — спрашивает она. — Не понимаю, как ты можешь тут сидеть — убил своего ребенка и сидит.
— Кто тебе сказал?
— Твой преподобный приятель. Еще один святой. Звонил полчаса назад.
— О Господи. Он все еще пытается.
— Я сказала, что тебя тут нет. Я сказала, что тебя тут никогда не будет.
— Я не убивал несчастного младенца. Это Дженис. Я как-то вечером на нее разозлился и пошел к тебе, а она напилась и утопила несчастную девочку в ванне. Не заставляй меня об этом говорить. А ты-то где была?
Онемев от изумления, она смотрит на него и тихо говорит:
— Послушай, ты и вправду сеешь смерть.
— Ты ничего не сделала?
— Молчи. Сиди тихо. Мне теперь все ясно. Ты и есть не кто иной, как сама Смерть. Ты не просто пустое место, ты хуже, чем пустое место. Ты даже не крыса, от тебя не воняет, потому что и вонять-то нечему.
— Успокойся, я ничего не сделал. Когда это случилось, я шел к тебе.
— Вот именно, ты ничего не делаешь. Ты просто бродишь повсюду с поцелуем смерти на устах. Убирайся. Честное слово. Кролик, от одного твоего вида меня уже тошнит. — Самая искренность этих слов отнимает у нее все силы, и она хватается за спинку стула — одного из тех стульев, сидя на которых они ели, — и перегибается через нее, широко раскрыв глаза и рот.
Кролик, который всегда гордился тем, что аккуратно одет, и всегда думал, что на него приятно смотреть, краснеет от этой искренности. Он рассчитывал, что он опять почувствует себя здесь господином, что опять возьмет над нею верх, но просчитался. Он смотрит на большие белые полумесяцы у себя на ногтях. Внезапное ощущение действительности парализует ему руки и ноги; его ребенок действительно умер, его песенка действительно спета, эту женщину действительно от него тошнит. Осознав это, он хочет получить все сполна, хочет, чтоб его окончательно приперли к стенке, и без обиняков спрашивает:
— Ты сделала аборт?
Ее передергивает, и она хрипло отвечает:
— А ты как думал?
Он закрывает глаза и, чувствуя, как шероховатая обивка подлокотников царапает ему кончики пальцев, молит: Боже, Боже милосердный, нет, не забирай этого, Ты взял одного, так даруй этому жизнь! Грязный нож поворачивается в запутанной тьме у него внутри. Открыв глаза, он по ее развязной позе видит, что она задалась целью его помучить.
— Не сделала? — с надеждой в голосе спрашивает он.
Смутная тень пробегает по ее лицу.
— Нет, — говорит она. — Нет. Надо, но я все время откладываю. Я не хочу.
Он вскакивает, охватывает ее обеими руками, не сжимая в объятиях, а словно заключая в магическое кольцо, и хотя от его прикосновения она вздрагивает и отворачивает голову на мускулистой белой шее, к нему возвращается чувство, что он снова взял над нею верх.
— Прекрасно, — говорит он. — Это так прекрасно.
— Слишком мерзко, — говорит она. — Маргарет все устроила, но я… я все время думала…