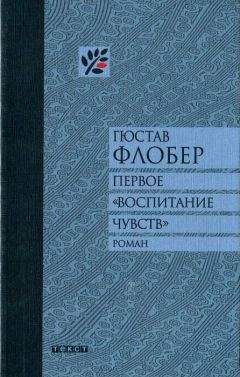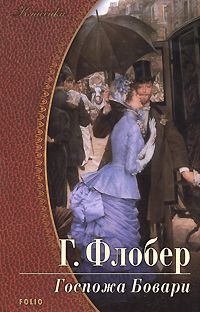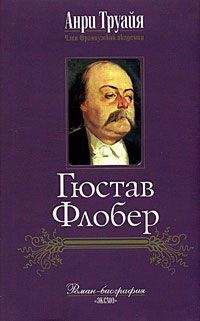Несмотря на ненависть к людям, Жюль не смог вполне избавиться от своей природной доверчивости, легко поддавался на уговоры мошенника, а то и вора, но редко бывал одурачен, ибо никогда не состязался с ними в хитрости и не мнил их победить. Напротив, Анри, любивший все человечество, не доверял ни одному из его представителей; он подразделял их на два больших подвида: жуликов и ничтожеств; во второй входить не желал, но льстил себя надеждой, что не принадлежит и к первому.
Когда они вместе строили догадки о следствиях чьего-нибудь поступка или поведения, почти всегда выходило, что случай давал перевес доводам Анри, а между тем логика оставалась на стороне Жюля; бывало, однако, что прав оказывался Жюль — тогда Анри вообще переставал что-либо понимать и даже терял способность выражать свое удивление словами.
Он не одобрял беззаботности своего друга относительно современной полемики вокруг политических событий, меж тем как сам подстерегал появление самоновейших фактов и шел по следам всех мельчайших инцидентов; со своей стороны, Жюль не видел смысла в подобном перебирании мимолетных пустяков, лишенных парения духа; он безнадежно путался в нюансах партий и мелких групп, а если ему случалось слышать о словопрениях в Палатах — не умел различить личных амбиций в перипетиях правительственной жизни.
В истории его волновало движение основных людских масс, позволявшее судить об ее общем ходе, и обуревавшие отдельного человека страсти, могущие облегчить понимание поступков; Анри в подобных же штудиях ограничивался поиском причин и следствий, однако не поднимался достаточно высоко в рассмотрении первых и не слишком далеко прослеживал вторые.
Его любовь к местному колориту тоже имела исключительно поверхностный характер, не распространялась дальше тех поводов, что позволяли о нем заговорить, — он не чувствовал его присутствия, пока ему не говорили: «Это колоритно», да и в книгах его не угадывал, кроме тех мест, где на сей счет имелись прямые указания; вообще, дочитывая книгу и торопясь перевернуть последнюю страницу, он не был способен на тот род самостоятельного труда, при котором события переживаются вновь, воскресают мертвецы, руины становятся опять дворцами — и жизнь начинается заново, то есть к такому одинокому бурлению мысли, состоящему из усилий ума, научных сведений и плодов вдохновения, когда в результате молчаливого плодотворного внутреннего напряжения история поднимается до высот философии и искусства, поскольку она нуждается в мысленных экспериментах, чтобы остаться истинной, и переменах перспективы, чтобы таковой казаться.
Жюль, еще не завершивший накопления знаний, ограничивался перечислением известных ему мнений и различного рода фактов, предоставляя другим делать выводы; Анри же начинал сомневаться только там, где это было рекомендовано, он пылко отстаивал все, что принято считать неопровержимым, и отваживался отрицать лишь то, что вызывало всеобщее неодобрение.
С литературой дело обстояло еще хуже. Анри совершенно освободился от преувеличенных восторгов молодости, но вместе с ними распростился и с энтузиазмом, этим высшим пониманием всего, что есть в мире прекрасного; пошлая мысль его уже не ожесточала, а в душе не стало места обожанию шедевров. К тому же его предпочтения обратились в иную сторону и выглядели теперь по-другому. Совсем не то у Жюля, сохранившего и былые художественные пристрастия, и нервные антипатии.
Книги, которые Анри читал по вечерам в кровати перед сном, были современными романами, пьесами, только что наделавшими шуму, фельетонами или водевилями. Если же ему хотелось чего-нибудь посерьезнее, он выбирал творения эпох, литературных по преимуществу, написанные самыми «правильными», изысканными авторами, общепризнанными гениями. Его любимым поэтом сделался Гораций, он охотно проглядывал судебные речи Цицерона, ему нравилось отыскивать у Расина нежные чувства, похожие на его собственные, он даже находил удовольствие в многочисленных аккуратно повторяющихся извивах, каковыми изобилует стиль Фенелона. От романтизма (старое слово, которое нынче употребляют за неимением лучшего) он оставил себе лишь внешние (и наименее романтичные) проявления, этакую стрельчатую и кольчужную готику, родственную творениям Гете и Байрона в той же мере, в какой классики Империи соотносимы с золотым XVII веком; короче, вкус его тяготел к тому направлению, отцом коего, скорее всего, был Вальтер Скотт, а могильщиком, что уже не вызывает сомнения, стал библиофил Жакоб.[107] Анри равно обожал все почитаемые образцы, выходя из этого состояния лишь для того, чтобы восхвалить какой-нибудь неизвестный труд непонятого автора, которого упорно объявлял первейшим в своем столетии, употребляя для превознесения красот его стиля крайне выспренние периоды и гиперболы, среди порядочных людей всегда расцениваемые как недостойные; когда же мода проходила или его мания иссякала, он с еще большим пылом возвращался к своим излюбленным мэтрам, а всех прочих и знать не желал.
Жюля, напротив, неодолимо притягивал кудрявый переизбыток таких эпох, как времена последних римских императоров или французский XVI век, когда ум человеческий произрастает вольно, выказывая себя изобильно, щедро, и все его элементы перемешаны, все цвета пущены в ход; так же пленяли его те редкие гении, чьей главенствующей чертой была полнота разнообразия, а истинность становилась неотличима от оригинальности: богами его поэтического небосклона оставались Гомер и Шекспир. Может быть, он чувствовал необходимость обрести для своих работ иную форму, более определенную и простую, чтобы затем подвергнуть их новой закалке, придав каждой подробности толику очарования и своеобразия? Тут он восходил к самым истокам изящного и воплощенной красоты, к Греции, к Софоклу, перечитывал также Корнеля за его простоту и Вольтера за четкость.
Ища в искусстве только чувственных удовольствий или радуясь простой игре ума, Анри не находил общего языка с Жюлем, черпавшим оттуда умные эмоции в чаянье той Красоты из его грез, чье присутствие он ощущал в своей душе.
Им, исходившим из несовместимых принципов, как из различных точек, направляясь в разные стороны, к несхожим целям, уже никогда не суждено было встретиться, но по временам они еще перекликались, задерживались в дороге из сочувствия друг другу или утомившись.
Так пришел им на ум дурацкий замысел совместного путешествия в Италию. Увы! Их дружба вышла из этого испытания изрядно потрепанной и осунувшейся, словно легочный больной после поездки на воды. Четыре месяца они не расставались, но ни один солнечный луч не согревал их с равным жаром, ни одна руина не пробудила в их сердцах сходного чувства.
Анри поднимался рано, бегал по улицам, срисовывал памятники, пересматривал книги в библиотеках, не упускал ни одного музея, посещал известные публичные места, со всеми умудрялся переговорить. Жюль, полночи прослонявшись по Колизею, поднимался не раньше полудня и выходил из дома, не имея определенной цели, останавливаясь, чтобы посмотреть, как спит нищий под солнцем, как женщины вяжут, сидя на крыльце, послушать, как воркуют голубки под церковным сводом. Идя куда глаза глядят или повинуясь воле случая, погруженный в свои грезы, он по десять раз возвращался к одной картине, так и не осмотрев галереи. Ему бы целой жизни не хватило, чтобы увидеть все то, что Анри обегал за единственный день; ничего удивительного: там, где Анри довольствовался десятком строк, чтобы выразить какую-нибудь мысль, ему бы понадобилось написать толстенный том. Анри вернулся из поездки с подробным дневником, Жюль — с несколькими обрывками стихотворений на листочках; к их помощи он потом прибегал, раскуривая сигару.
Жюль слушал, а Анри смотрел, один вдохновлялся, другой занимался самообразованием; мирно уживаясь и отнюдь не ссорясь ни по какому частному поводу, каждый тем не менее оставлял другого в полнейшем одиночестве, а когда случалось обмениваться мнениями, они выражали их как можно поверхностнее, не приближаясь к душевной сути, и говорили то же, что бы сказали любому другому — да хоть первому встречному, случайному прохожему.
Вот так и утекает жизнь, в обманчивых симпатиях, в непонятых излияниях души: засыпающие под одним одеялом видят разные сны; приходится прятать мысли, таить в себе счастье, никому не показывать слезы; отец уже не знает сына, муж жены, возлюбленный перестает клясться в любви своей избраннице, друг не слышит друга — все это слепцы, напрасно пытающиеся нащупать других незрячих в их сумерках и только больно ранящие соседа, когда случайно натыкаются на него.
Итак, их сердца медленно отдалялись друг от друга, движимые одною только силой вещей, без непосредственных причин для расхождения, без разрывов и боли. С их дружбой произошли те же незаметные каждодневные изменения, что и со снятым с ветки спелым плодом: однажды глядишь, а он-то уже подгнил. На смену тесному юношескому союзу пришло болёе прохладное и сговорчивое участие, не грозящее, как ранее, разрывом, но уже едва ли способное расти и шириться. Мы не можем отбросить старинные наши дружбы, чтобы не лишиться сразу слишком многого, подобное чревато саморазрушением; но эгоистическая уважительность, более кощунственная, нежели ненависть, есть лишь еще одна иллюзия, мешающая видеть, что мы теряем.