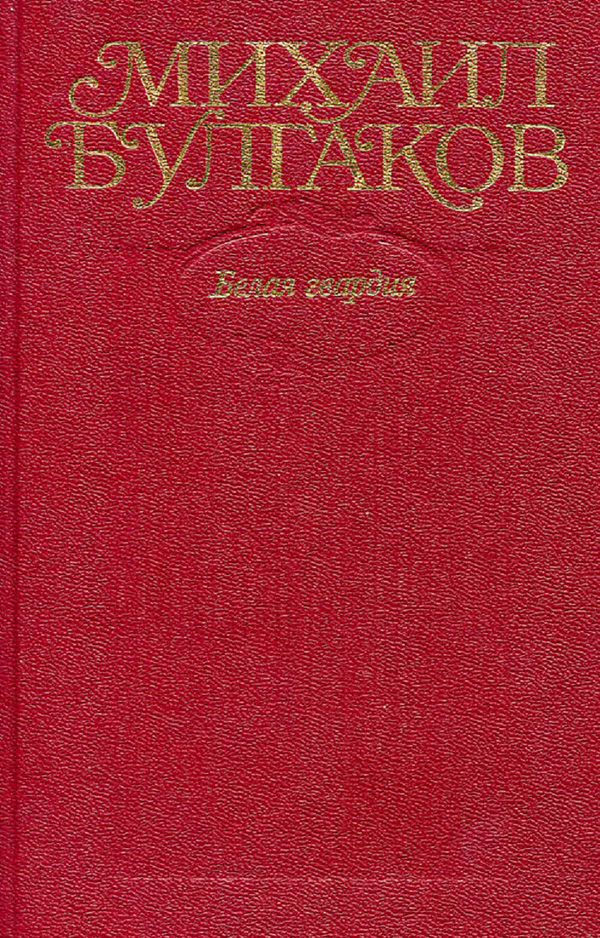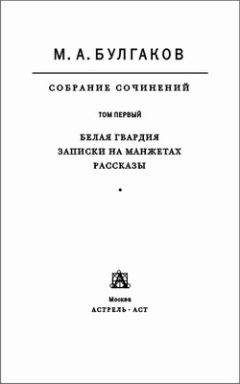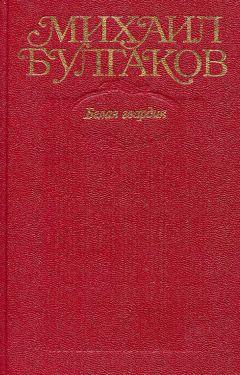к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)
Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.
Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.
— Пятьдэсят сегодня, — сказало знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.
— Что ты, Явдоха? — воскликнул жалобно Василиса. — Побойся Бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.
— Що ж я зроблю? Усе дорого, — ответила сирена, — кажут на базаре, будэ и сто.
Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...
— Смотри, Явдоха, — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), — уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы.
«Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился.
Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.
— Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо, — вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-ноги-то — а-ах!!» — застонало в голове у Василисы.
В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.
— С кем это ты? — быстро шнырнув глазом вверх, спросила супруга.
— С Явдохой, — равнодушно ответил Василиса, — представь себе, молоко сегодня пятьдесят.
— К-как? — воскликнула Ванда Михайловна. — Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились... Явдоха! Явдоха! — закричала она, высовываясь в окошко. — Явдоха!
Но видение исчезло и не возвращалось.
Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда — ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, — не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.
— Разучимо? А? Как вам это нравится? — сам себе бормотал Василиса. — Ох уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее — роскошь...
Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.
— Какая дерзость... Разучимо? А грудь...
И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.
Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.
Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 [103] содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.
Вот и все! И из-за этой бумажки, — несомненно, из-за нее! — произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас... Ай, ай, ай!
Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер — Симо́н. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.
— Нет, счетовод.
— Нет, студент.
Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.
Так вот нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:
— Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.
— Не союза городов, а земского союза, — отвечали третьи, — типичный земгусар.
Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:
— Позвольте... позвольте-ка...
И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват, одиннадцать... они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем...
Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места...
— Вы говорите, бритый?
— Нет, кажется... позвольте... с бородкой.
— Позвольте... разве он московский?
— Да нет, студентом... он был...
— Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем [104]...
Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы, изморось, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара — дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.
Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьмы, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира.
Идут и поют
Юнкера гвардейской школы...
Трубы, литавры,
Тарелки гремят.
Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть