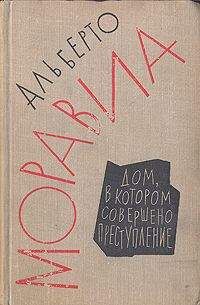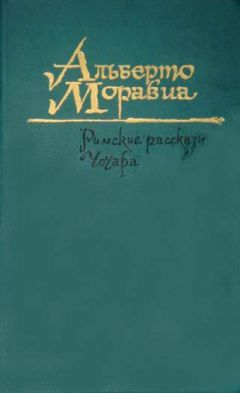Я сознаю это столь ясно, что какое-то время озираюсь по сторонам, словно в надежде быть опровергнутым книжными полками, занимающими от пола до потолка три из четырех стен комнаты. Увы! Они лишь неоспоримо подтверждают то, что я уже знаю. Книжные полки — воистину зерцала моей законченной серости, иными словами, той самой культуры, которой Фауста, еще большая серость, так восторгается. К несчастью, мои книжные полки говорят, точнее, даже вопиют, взывают ко мне: „Это мы“. В нижних рядах сложены по порядку папки с киносценариями — свидетельства многолетней низкопробной поденщины, поставляемой для индустрии культуры. Повыше выстроились книги, которыми ты прямо или косвенно пользовался для кропания своих опусов, то есть либо прямо брал книги серьезные и не очень и перекраивал их в сценарии, в зависимости от приливов и отливов рынка и сроков кинопроизводства; либо косвенно употреблял все остальные прочитанные тобою книги для пополнения, как говорится, твоего культурного багажа (правда, коль скоро этот культурный багаж был нужен тебе лишь затем, чтобы выпекать сценарии, то и читал ты в конечном счете с единственной целью — повыше „котироваться“ в глазах очередного продюсера). Ну вот, к примеру: рядом с нашумевшим романом, по которому ты действительно написал сценарий, стоит полное собрание Пруста; однако, если хорошенько присмотреться, станет ясно: чтение Пруста понадобилось тебе исключительно для того, чтобы в один прекрасный день заметить твоему соавтору: „Помнишь, как это у Пруста? Отлично, тогда ты легко поймешь меня, если я скажу, что в отношениях между Марио и Джованной мы должны обозначить сюжетную линию Свана и Одетты“. Или вот еще: романы Кафки, читанные и перечитанные взахлеб, однако впоследствии, в схожих ситуациях, сгодившиеся для реплик примерно такого рода: „Кафкианскими — вот какими должны быть помещения полиции“. Что и говорить, человек ты образованный, быть может, самый образованный из нынешних сценаристов; только культура нужна тебе для того, чтобы такие, как Протти, твой теперешний продюсер, глубокомысленно заключали, когда ты находишься в их „свите“: „А это уже по части культуры. Тут нам без Рико не разобраться, ведь он прочел чуть ли не все книги“. Впрочем, ты в этом не виноват. Во всем виноват „он“. Да-да, именно по „его“ вине ты никогда не мог достичь отрешенной, сублимированной культуры, которая, собственно, на то и существует, чтоб порождать другую культуру, то есть власть. Будучи по природе своей узколобым, ты и поступил как все узколобые: взял то, в чем нуждался для твоих сценариев, и выбросил то, что дало бы тебе власть. И вот, проглотив уйму всяких книг, ты остался по сути дела необразованным, причем в той унизительной форме, что свойственна узколобым: с напыщенной, иллюзорной верой в собственную образованность.
Так, сурово, но справедливо, взывают ко мне мои книги. Отвращение и подавленность, должно быть, отчетливо проступают на мое лице, потому что Фауста спрашивает встревоженно: — Что с тобой? Что-нибудь тут не так? Честное слово, кабинет все время заперт, я каждое утро вытираю пыль и проветриваю.
Встряхиваюсь и отвечаю сухо: — Нет, нет, все в полном порядке.
Затем уверенно направляюсь к нужной полке и достаю энциклопедию психоанализа. Перелистывая ее, обращаюсь к Фаусте: — Хочешь знать, почему я стал жить отдельно? Она смотрит на меня рассеянным, непонимающим взглядом. Я открываю энциклопедию на хорошо известной мне странице и медленно читаю вслух: — „СУБЛИМАЦИЯ. Процесс, объясняющий, согласно Зигмунду Фрейду, различные механизмы индивидуальной активности, не связанной внешне с половой природой индивида, но мотивированной силой полового влечения. К сублимированным видам индивидуальной активности Фрейд относил прежде всего творческую и умственную деятельность“. — Здесь я останавливаюсь и повторяю по слогам: — Твор-чес-кую и умст-вен-ную де-я-тель-ность. — После короткой паузы дочитываю: — „Половое влечение считается сублимированным в той степени, в какой оно переключено на новую цель и направлено на социально приемлемые объекты“.
Я закончил. Закрываю книгу и ставлю ее на место. Немного погодя спрашиваю у Фаусты: — Теперь поняла, зачем мне нужно пожить одному, сосредоточиться и как следует разобраться в себе? — Нет: От такой тупости я разом теряю терпение и перехожу на крик: — Затем, что, пока я живу с тобой и мы каждый день, а то и дважды в день занимаемся любовью, я благополучно остаюсь прежним узколобиком. И никакой тебе сублимации. Поняла? Узколобиком, то бишь бедолагой, недоумком, бездарем, малахольным страдальцем с огромным, могучим пенисом и крохотными, слабосильными мозгами. Вот зачем! Узколобик: именно такие-то и устраивают всех этих Протги — с ними никаких забот. Узколобик: добропорядочный гражданин, примерный муж, чуткий родитель, даром что психованный рогоносец и отец не своего ребенка. Узколобик! Безмозглая, покорная скотина, все жизненные притязания которой сосредоточены ниже пояса. Грубая тварь, домогающаяся исключительно вот этой штуковины. — Обуреваемый яростью и одновременно желанием, я протягиваю руку, развязываю поясок халат, заголяю Фаустин живот и хватаю обеими руками обильную густую поросль ее подбрюшья с диким криком: — Ну что, дошло или надо еще объяснить? — Аи, мне больно! До меня дошло только то, что твой Фрейд не хочет, чтобы мы занимались любовью. А меня это и не очень беспокоит. Я только хочу, чтобы ты меня любил, чтобы вернулся ко мне и Чезарино. Да пусти же, больно ведь! — Так дошло или нет? — Дошло, дошло, что ты меня больно щиплешь, отпусти! Между прочим, ты всегда первый начинаешь заигрывать. По мне, так хоть сейчас давай поставим точку. Хочешь, поклянусь нашим Чезарино…
— Оставь в покое Чезарино! Лучше скажи: поняла ты или не поняла? И что ты поняла.
— Поняла, что сейчас ты хочешь заняться любовью, вот что я поняла. Да не тяни так, очень больно. Пойдем, пойдем туда.
Сказав это, она делает обычный для таких случаев жест: вместо того чтобы взять меня за руку, она хватает „его“, поворачивается ко мне спиной и направляется к двери, ведя меня за собой, точно осла на уздечке.
Как быть? Собираю воедино всю свою волю, мысленно взываю к моему святому покровителю, благочестивому Сигизмунду Фрейду, и, едва мы переступаем порог спальни, роняю: — Хорошо, займемся любовью. Но сначала ты изобразишь „телку“.
Следует пояснить, что это одна из многочисленных, скажем так, супружеских игр, которые „он“ измыслил для удовлетворения собственных нужд и запросов, несмотря на мои постоянные и решительные возражения.
Фауста протестует: — Нет, только не это. Как-нибудь в другой раз. Сейчас давай как обычно.
— Выбирай: или „телка“, или вообще ничего.
Распетушившись, „он“ шепчет мне, не подозревая, что я использую „его“ игру против „него“, а не в „его“ пользу.
„— Так, молодец, будь непреклонен“.
Фауста спрашивает: — Да зачем тебе? — Затем, что мне хочется. Затем, что мне нравится. Ни за чем — Разыграть меня решил, а я, дурочка, тебя слушаю.
В конце концов Фауста смиряется, словно способная девочка, ставшая послушной и сообразительной после нескольких лет работенки по найму в салоне „Марью-мод“. Вот она забирается на кровать и становится на четыре конечности. Вот заводит руку назад и приподнимает завесу халата, являя впечатляющее зрелище — огромный белоснежный зад; ягодицы как бы ширятся, раздаются и увеличиваются благодаря собственной чистоте и незапятнанной белизне. Позади этих необъятных полушарий, от которых голова идет кругом, как у страдающего боязнью открытого пространства при виде неоглядной, безлюдной площади, полностью исчезают прочие, все еще привлекательные формы. Жалкими и тощими кажутся обе ляжки, притом что, если Фауста выпрямится, они напоминают две внушительные колонны. Несоразмерно короткими чудятся руки, на которые опирается туловище. Фауста задирает голову, забавно смахивая на животное, открывает рот и протяжно мычит: — Му-у-у-у.
— Еще.
— Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у.
— Еще.
Из последних сил Фауста издает на этот раз настоящее коровье мычание, вроде тех, что можно услышать на альпийских лугах вперемежку со звоном колокольчиков. Пользуюсь моментом и отскакиваю назад. Пока тягучее, душераздирающее мычание продолжается, выскальзываю из спальни, одним прыжком оказываюсь у входной двери, открываю ее и сломя голову выбегаю вон. Уже на лестнице замедляю шаг. Мне тошно и противно.
„Он“ молчит, вероятно, настолько ошарашен, что не в силах говорить. Обращаюсь к „нему“: „- Еще одна мерзость, и все по твоей милости. И не с какой-нибудь потаскухой — нет, а с собственной женой, с матерью моего сына, с женщиной, которую я люблю больше всего на свете, с моей бедной Фаустой!“
А вот и Маурицио. Услышав долгожданный звонок, вскакиваю со стула и несусь открывать. Маурицио идет по коридору так уверенно, словно он частый гость в этом доме. На самом деле он здесь впервые; до сих пор мы работали на киностудии. Невысокий, ладно сложенный, в белом парусиновом костюме, черных ботинках и черных очках, с пепельномедовыми волосами, подстриженными как у ренессансного пажа, он неторопливо, с некоторым налетом снисходительности вышагивает впереди меня, засунув руки в карманы. С чего вдруг эта презрительная мина? Кому она адресована? Ясное дело, мне, ведь я с самого начала распластался "внизу", после того как запыхавшимся голосом выпалил ему с порога: — Ты опоздал. Я ждал тебя к четырем, а сейчас уже пять.