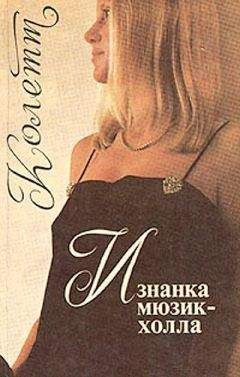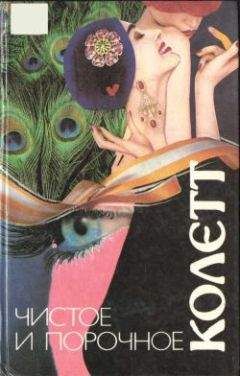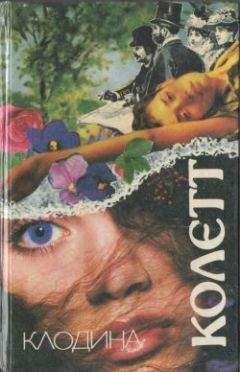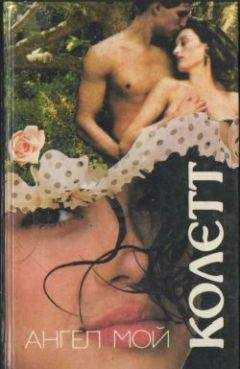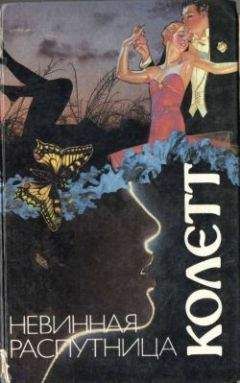Она ему нравится. И раздражает его. Порой он пожимает плечами, глядя ей вслед, но я знаю, что это он смеется над собой. Позавчера он бросил в большую шляпу Глори, которую она перевернула и раскачивала, держа за ленты, полдюжины мандаринов, и орда белокурых дикарок расхватала их с ужасающими воплями, хохоча и царапаясь. Живого, ветреного молодого француза этот затянувшийся флирт выводит из терпения, а Глори находит в нем удовольствие. Она разгорается медленно, как сентиментальная маленькая девочка. Она называет его по имени: «Масс'л» и подарила ему свою фотографию на почтовой карточке — не ту, где она в виде малютки с обручем, и не ту, где она изображает «мальчугана в духе Пульбо»[1] в дырявых штанишках, о нет! Самую красивую из всех, где Глори играет даму Средневековья в остроконечном головном уборе — королева, да и только!
То, что они не могут разговаривать друг с другом, как будто не мешает им. Ловкач Марсель прикидывается преданным и покорным. Я видела, как он целовал маленькую ручку, которую у него не отнимали, худенькую ручонку, потрескавшуюся от холодной воды и жидких белил; но тайком он поглядывает на Глори пристально и сосредоточенно, как будто заранее намечая места, куда он ее поцелует. А она, закрыв за собой дверь гримерной, напевает, чтобы он мог ее слышать, и бросает его имя: «Масс'л!» — как бросают цветок…
В общем, все идет хорошо. Даже слишком хорошо… Эта почти немая идиллия развивается как мимодрама. Никакой музыки, кроме звенящего голоса Глори, и почти никаких слов, кроме имени «Масс'л», которое любовь наделяет всевозможными оттенками… После радостных, ликующих, чуточку гнусавых возгласов «Масс'л» я слышала «Масс'л!», произносимое медлительно, кокетливо, нежно и требовательно, и вот однажды «Масс'л!» прозвучало с такой дрожью в голосе, так печально и уже с мольбой…
Думается, сегодня вечером я слышу это имя в последний раз. Я вижу, как на самом верху лестницы, совсем одна, съежившись, сидит маленькая Глори в сбившемся набок парике, смиренно льет слезы на свой грим и тихо-тихо повторяет:
— Масс'л!..
— Держи руку! Держи руку как следует, Элен! Ты уже второй раз задеваешь голову ладонью! Повторяю, деточка: руки должны быть подняты над головой, как будто ты несешь корзину!
В ответ — ни слова, только хмурый измученный взгляд, и Элен выправляет положение руки. Она вновь собирается вспорхнуть над паркетом танцевального класса, истертым, лоснящимся паркетом, в щербинах от ударов тростью и от каблуков; но вдруг, передумав, зовет:
— Вы еще здесь, Робер?
— А как же… — раздается смиренный голос из-за двери.
— Вы не могли бы съездить на автомобиле к меховщику и предупредить его, что я приду не сегодня, а только завтра?
Ответа нет, но я слышу, как постукивает трость, как захлопывается дверь: Робер уехал.
— Ничего страшного! — произносит Элен, уже более мягким тоном. — Когда я знаю, что он сидит там, ничего не делает и ждет, — это меня раздражает.
Два раза в неделю я присутствую при том, как Элен Громе, которая занимается с четырех до пяти, заканчивает урок, и затем сменяю ее. Она относится ко мне не как к товарищу, а скорее как к коллеге или служащей с той же фабрики. И потому разговоры у нас недолгие, но серьезные, и порой она рассказывает о себе с холодной откровенностью, как если бы доверялась своему врачу из водолечебницы или своей массажистке.
Элен не настоящая балерина, она — «танцующая милашка». В прошлый сезон она дебютировала в мюзик-холле, в ревю, и для начала «отвесила» публике два гривуазных куплета, пропетых без ужимок мнимой стыдливости, с ясным взглядом, во всю мощь свежего, необработанного, дерзкого голоса, и ее вызывающая невинность очаровала зал. Серьезные ангажементы, «друг», испытывающий вполне дружескую привязанность, два автомобиля, бриллианты и соболя — все это как из рога изобилия посыпалось на Элен, но не вскружило ее трезвую головку. Она хвалится тем, что она «труженица», и сохраняет свою неблагозвучную простонародную фамилию.
— Сами подумайте, не креститься же мне во второй раз? С простой, некрасивой фамилией сразу попадаешь в избранный круг: возьмите, например, Баде и Бордена!
Каждый приезд на урок превращается у нее в маленький триумф. Вначале приглушенный рокот автомобильного мотора возвещает о ее прибытии, затем появляется она сама, закутанная в бархат и горностай, с подрагивающим облаком эгретки над шляпой. Обильно и продуманно наложенная косметика опошляет юное лицо, неестественно белое от пудры, и на щеках и подбородке слишком розовое от румян. Подсиненные веки окаймляет двойная бахрома тяжелых, жестких от черной мастики ресниц, а зубы кажутся слепяще белыми из-за темной, почти лиловой помады.
— Я, конечно, понимаю, что в мои годы можно обойтись без всей этой гадости, — объясняет Элен. — Но иначе туалет будет неполным, и потом, это полезно: видите ли, я сейчас накрашена раз и навсегда. Когда я стану на двадцать лет старше, мне не нужно будет ничего прибавлять. Это удобно: я могу заболеть, могу плохо выглядеть, а косметика все скроет. Знаете, я ведь ничего не делаю просто так.
Ее юный утилитаризм приводит меня в растерянность. Она выполняет свой урок сознательно и до конца, словно выпивает стакан рыбьего жира. Впрочем, на нее приятно смотреть, когда она трудится — гибкая, крепко стоящая на послушных ногах. Она хорошенькая и трогает своей молодостью. Чего же ей не хватает? Ей не хватает…
— Улыбайся, Элен! Улыбайся! — кричит репетиторша. — Опять ты смотришь так, словно за кассой сидишь. Ты, деточка, как будто не понимаешь, что ты танцуешь!
Напрасно бывшая танцовщица демонстрирует на собственном широком и красном лице, что Элен должна, разомкнув губы, приподнять уголки рта наподобие полумесяца. Это я смеюсь, глядя на степенную, словно лавочница, Элен, на ее озабоченно сдвинутые брови, на невозмутимый накрашенный рот.
О чем думает это настойчивое, упорное дитя, эта неутомимая бесчувственная пчелка? Она часто повторяет: «Если хочешь пробиться…». Куда пробиться? Что за мираж витает перед ее зачарованным взором, когда она смотрит словно сквозь стену, сквозь меня, сквозь раболепную физиономию своего юного «друга»? Она в напряжении, она без устали стремится к какой-то неведомой цели. К славе? О нет. Те, кто жаждет славы, обычно признаются в этом, а я ни разу не слышала, чтобы Элен Громе мечтала о видных ролях или заявляла: «Когда я стану премьершей…» Скорее ее привлекают деньги. После нелегкого урока вроде сегодняшнего усталость Элен позволяет мне лучше разглядеть в ней юную, основательную простолюдинку, неуемную накопительщицу.
В ее усталости есть некое изящество, проникнутое чувством удовлетворения, почти счастья, — точно у прачки, сбросившей с плеч узел намыленного белья. Она сидит рядом со мной на банкетке, едва прикрытая влажной от пота рубашкой и шелковыми штанишками. Положила ногу на ногу и сидит молча, опустив одно плечо, свесив голые руки. В сумерках волнистые черные волосы кажутся совсем синими…
И я представляю себе, как в этот же час с плавучей прачечной возвращается в свою бедную квартирку мама Элен и так же вот роняет натруженные покрасневшие руки, как приходят домой сестра или брат Элен, из мастерской или какой-нибудь затхлой конторы. Они так же дотошны во всем, так же устремлены в будущее, а по временам подвержены приступам уныния, как Элен.
Сейчас она отдыхает, а потом начнет краситься наново, с помощью большой пуховки и ватного шарика, окрашенного кармином. С доверчивостью задремавшего животного она позволяет мне увидеть свои смуглые щеки — простому смертному невдомек, что кожа на них золотистого оттенка и притом грубоватая. Избыток пудры вот-вот скроет линию ее носа, круто изогнутого, почти хищного…
Но вот возвращается Робер — и она вскакивает, готовая к обороне. А ведь это всего лишь покорный и смирный блондин, который услужливо кидается помочь ей, одеть ее, прикалывает к туфелькам блестящие пряжки, затягивает длинный розовый шнур корсета… Не хватает сущей мелочи, чтобы эта парочка казалась восхитительной…
Я вижу, что он ей не противен, однако не могу сказать, что она любит его. Она внимательна к нему, но без подчеркнутого желания угодить. Когда они уходят вместе, она изучает его проницательным, оценивающим взглядом, словно еще один урок, который ей предстоит выполнить. И порой мне хочется удержать за руку этого алчного ребенка и спросить:
— Но, Элен… А как же любовь?
Как хорошо!
Маленькая танцовщица потирает обнаженные руки, красноватые, с острыми локтями, руки худощавой блондинки, и, словно животворный воздух, вдыхает жаркую сухость ресторана.
В середине большого зала, на покрытой навощенным линолеумом площадке для танцев, уже кружатся костюмированные пары: нормандка в кружевном чепце, бедовая девчонка в красном платке, альмея, завитой «младенец», опоясанный клетчатой лентой… Ресторан, расположенный на Ривьере, держит десяток танцовщиц и столько же певцов.