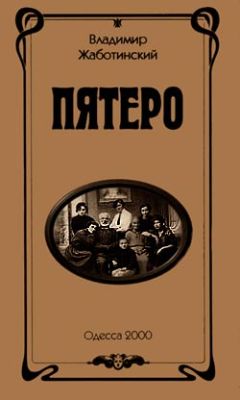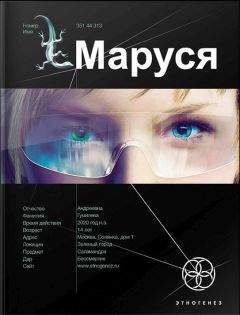Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас была в городе дружная компания художников-южан[56]; общий приятель наш, известный в те годы поэт, драматург и беллетрист[57], описал ее когда-то под кличкой «двенадцать журавлей»; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в одном из греческих ресторанчиков, позади Городского театра, скупо допуская в свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга, «за любовь к Италии», и под условием (после одного опыта) «никогда не писать в газете о картинах». Один из них, увидав меня как-то на спектакле в ложе у Анны Михайловны, попросил:
— Познакомьте меня: интересные головы у всей этой семьи. — Я сообразил, что множественное число — только для отвода глаз, а зарисовать ему хочется Марусю.
Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко, с деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:
— Что за неслыханная красавица ваша младшая. дочь!
Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо натянутые, морщились гармоникой из-под не совсем еще длинной юбки.
Главное — вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о привлекательности, — не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные ли ресницы у городового. Посвященный ей Сережей «портрет» начинался так:
Велика штука — не язык, а пика:
А ну-ка уколи-ка, злюка Лика!
А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо «открыть». Черные волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой, точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день. Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую, почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук, нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные, тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские, срисованы Богом с капитолийской Венеры — наклонные, два бедра высокого треугольника, без подушек у перехода в предплечья… Но ложка упала так, что брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.
— Вижу, — вздохнул художник, — не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость, кажется, не обиделся, но почему-то очень оскорбленным почувствовал себя я. Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись «войдите», и выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.
Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь, тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из-под ног у Лики вдруг выкатился камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился, нагнулся и схватил ее за руку.
— Пустите руку, — сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она, словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо, тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли? сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка вскрикнула и села, потирая щиколотку.
— Не надо ждать, — сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
— Пройдет, тогда и пойдем, — ответил я с искренним бешенством. — По моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.
Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и спросил:
— В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна — за что вы так меня возненавидели?
Она пожала плечами:
— И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни… — Она поискала слова и нашла целую тираду: — ни вся эта орава бесполезных вокруг Маруси, и Марко, и мамы.
— От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
— Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в стан «погибающих».
— А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
— Знаете? — заговорил я, — раз, когда у вас было такое выражение лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д’Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и, кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово: посмотрит — рублем подарит. Не в смысле ласки или милости «подарок», взгляд ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе отчета, что большой чей-то сад.
— Вы меня вытащили, — сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, — напрасно я на вас огрызнулась; в искупление — я вам на этот раз отвечу серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа, если хотите, прав: «голоса». Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат одно и то же, одно слово.
Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я попробовал помочь:
— «Хлеба»? «Спаси»?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
— Даже невоспитанной барышне трудно произнести. — «Сволочь».
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того чужого сада не руганью, а в каком-то первобытном значении, точно вырвала она его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым настал час договориться до конца.
— Это вы о ком?
— Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. — Вы думали, что мои голоса кричат «хлеба!» и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не жалко и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.
— Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
— Если хватит меня, да.
— Одна, без товарищей?
— Поищу товарищей, когда окрепну.
— Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
— Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу чувствую чужого.
Она подумала напряженно, потом сказала:
— Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее, оттого им весело… с Марусей, например. А злопамятные записывают только все черное: «хорошее» у них само собою через час стирается с доски, да и совсем оно для них и не было «хорошим». Я в каждом человеке сразу угадываю, черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. — Теперь я уже могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор — как бы это выразить…
Я ей помог:
— Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
Перед выездом на дачу произошло важное событие — Марко получил, наконец, аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию восторженное описание этой вакханалии; конечно не для печати, а просто из принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном составе явился в «Северную», славнейший кафешантан в городе, куда им еще накануне, как гимназистам, строго запрещен был вход; и так они там нашумели, что дежурный пристав (хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все равно как на буйства новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не выдержал и пригрозил участком; на что старейший из второгодников дал, по словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях черноморского просвещения: