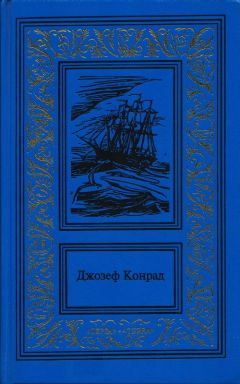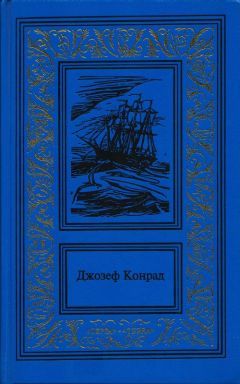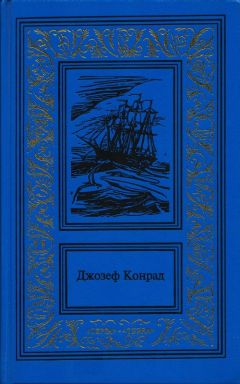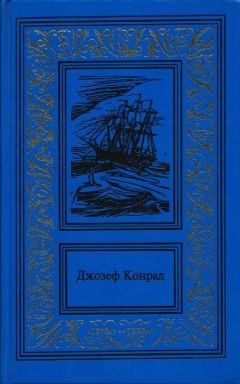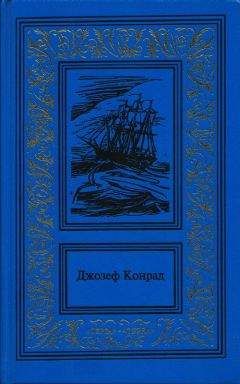У фок-мачты несколько человек, собравшись кружком, спорили об отличительных признаках джентльмена. Один сказал: «Все дело в деньгах». Другой возразил: «Ничего подобного. Они говорят по-иному, не по-нашему» Хромой Ноульс всунул свою немытую физиономию (это был самый грязный человек на баке) и, обнажив в язвительной улыбке несколько желтых зубов, с хитрым видом заметил, что он «не мало повидал на своем веку ихних штанов». Задняя часть этих принадлежностей, как он уверял, бывала обыкновенно тоньше бумаги — от постоянного сидения в конторах, но в остальном штаны были первосортные и могли держаться целые годы. Все дело было во внешности.
— Не велика штука, — сказал он, — быть джентльменом, черт возьми, когда занимаешься чистым делом.
Они спорили без конца, упорные, как дети, выкрикивая с разгоряченными лицами свои поразительные аргументы; а ласковый ветер наполнял огромную полость фока, который выпячивался, раздувшись над их непокрытыми головами, и шевелил спутанные волосы мимолетным прикосновением, легким, как робкая ласка.
Они забыли свою работу, они забыли самих себя. Повар подошел, чтобы прислушаться, и остановился, весь сияя от сознания собственного благочестия, словно самодовольный праведник, который не может забыть ожидающей его славной награды. Донкин, одиноко размышлявший над своими обидами на верхушке бака, придвинулся ближе, чтобы поймать нить разговора, шедшего внизу. Он небрежно оперся о перила, повернув свое болезненное лицо к морю, и тонкие ноздри его задвигались, вдыхая ветерок. Лица, озаренные пламенем заката, выражали острое любопытство, губы блестели, глаза сверкали.
Гуляющие пары внезапно остановились на ходу с широкими усмешками на лицах; один из матросов, стиравший в чане, так и уселся в экстазе на пол с пятнами мыльной пены на мокрых руках. Даже три квартирмейстера, откинувшись назад и удобно опершись, прислушивались с улыбками превосходства на губах. Бельфаст перестал чесать ухо своей любимой свинье и, разинув рот с горящими от нетерпения глазами, старался вставить свое слово. Он поднимал руки, гримасничая и кривляясь.
Чарли издали крикнул спорящим:
— Я больше вас всех знаю о джентльменах, потому как был с ними в самых что ни на есть близких отношениях… я им чистил сапоги.
Повар, выворачивавший шею, чтобы лучше слышать, был скандализован.
— Заткнись, когда старшие говорят, бесстыжий язычник, мальчишка!
— Ладно, старая аллилуйя, я кончил, — успокоительно ответил Чарли.
Какое-то замечание Ноульса, произнесенное с невероятно лукавым видом, вызвало рябь смеха, которая выросла в волну и разразилась потрясающим грохотом. Они топали обеими ногами, с криками обращая к небу лица, многие просто лопались от смеха, ударяя себя по бедрам, тогда как другие перегибались вдвое и задыхались, обхватив обеими руками животы, словно от боли. Боцман и плотник, не меняя поз, тряслись, сидя на своих местах. Парусный мастер, жаждавший рассказать анекдот об адмирале, недовольно надулся, повар вытирал себе жирным лоскутом глаза, а хромой Ноульс, удивленный собственным успехом, стоял среди них, тупо улыбаясь.
Вдруг лицо Донкина, свешивавшееся через поручни бака, сделалось серьезным. Через дверь бака доносилось что-то вроде слабого стука. Он перешел в ропот и кончился болезненным вздохом. Человек, занимавшийся стиркой, резко погрузил обе руки в чан. Повар сразу пал духом, хуже изобличенного вероотступника. Боцман смущенно зашевелил плечами; плотник вскочил одним прыжком и удалился, а парусный мастер, казалось, мысленно отказался от своего анекдота и с мрачной решимостью принялся попыхивать трубкой. В черном проходе заблестела пара белых больших пристальных глаз, затем показалась и вся голова Джемса Уэйта, словно подвешенная между двух рук, державшихся за косяки двери по обеим сторонам лица. Кисточка его синего ночного колпака свешивалась вперед, весело танцуя над левым веком. Он, пошатываясь, вышел на палубу. Уэйт выглядел таким же сильным, как всегда, но при этом как-то странно и неестественно покачивался на ногах. Лицо его как будто чуточку похудело со времени отплытия, и глаза казались чересчур большими. Одно уж появление его как будто ускорило отступление гаснущего света; заходящее солнце резко погрузилось, словно убегая от негра; от него исходил черный туман, какое-то неуловимое веяние, что-то холодное и мрачное, ложившееся на все лица, точно траурная вуаль. Кружок распался. Радостный смех замер на застывших губах. Ни один человек из всей команды судна не улыбнулся. Никто не произносил ни слова. Многие повернулись спиной, стараясь сделать вид, будто все происходящее нисколько их не касается; другие, отвернув головы, почти против воли продолжали искоса посматривать на него; они, скорее, напоминали застигнутых на месте преступников, чем честных людей, смущенных какой-то неожиданностью. Только два или три человека смотрели прямо, слегка раскрыв губы. Все ждали, что Джемс Уэйт что-то скажет и в то же время, как будто уже заранее знали, что это будет. Он прислонился спиной к косяку и обвел всех тяжелым взглядом, властным и измученным, словно больной тиран, желающий подчинить себе толпу низких, но ненадежных рабов.
Никто не отошел. Они ждали, завороженные страхом.
Он заговорил иронически, задыхаясь между словами:
— Спасибо вам… ребята. Вы… добрые… спокойные… товарищи. Орете тут… у дверей…
Он сделал более продолжительную паузу, во время которой ребра его, делая преувеличенные усилия, старались овладеть дыханием. Это было невыносимо. Ноги зашаркали. Бельфаст застонал; один только Донкин мигал наверху своими красными веками с невидимыми ресницами и ядовито улыбался над головой негра.
Негр снова заговорил, на этот раз с неожиданной легкостью. Он больше не задыхался, и голос его звучал громко и гулко, словно он говорил в пустой пещере. Он был надменен и зол.
— Я попробовал заснуть немного. Ведь вы знаете, что я не могу спать по ночам. Приходите трещать тут под самой дверью, как проклятые старухи какие-то. А небось считаете себя хорошими товарищами? Так кажется? Очень вы заботитесь об умирающем человеке.
Бельфаст отскочил от свиного хлева.
— Джимми, — крикнул он дрожащим голосом. — Если бы ты не был болен, я бы…
Он остановился. Негр подождал немного, затем произнес мрачным тоном.
— Ты бы — что? Пойди, поищи себе кого-нибудь другого для драки. Такого же здорового, как ты. Оставь меня в покое. Я не долго протяну. Скоро отправлюсь… и так уж достаточно.
Люди стояли, притихнув, едва дыша, с злыми глазами. Это было как раз то, чего они ожидали и чего не выносили, — намек на подкрадывающуюся смерть, который этот ненавистный негр по многу раз в день бросал им в лицо, точно заслугу или угрозу. Он, казалось, гордился этой смертью, которая до сих пор лишила его лишь некоторых жизненных удобств; он чванился ею, словно никто другой в мире никогда не был близок с подобным спутником; он беспрестанно выставлял ее перед нами напоказ с любовным постоянством, которое делало ее присутствие в одно время и несомненным и невероятным. Невозможно было заподозрить кого-либо в такой чудовищной дружбе. Кто же был этот вечно ожидаемый гость Джимми — действительность или обман? Мы колебались между жалостью и недоверием, когда он по малейшему поводу начинал трясти перед нашими глазами кости своего назойливого и гнусного скелета. Он вечно выставлял его напоказ. Он говорил об этой приближающейся смерти так, как будто она была уже тут, как будто она гуляет снаружи по палубе, как будто она вот-вот войдет и уляжется на единственную пустую койку, как будто она сидит рядом с ним за каждой трапезой. Она ежеминутно вмешивалась в нашу работу, в наш досуг, в наши развлечения. Мы перестали заниматься по вечерам музыкой и пением, потому что Джимми (мы все ласково называли его «Джимми», чтобы скрыть свою ненависть к его сообщнику) ухитрился нарушить своей ожидаемой кончиной даже душевное равновесие Арчи. У Арчи была гармоника, но после пары язвительных поучений Джимми, он заявил нам, что не станет больше играть — «Джимми — не жилец на свете. Не знаю в чем штука, но только дело его очень плохо, очень плохо. Нечего приставать ко мне, ребята, я не стану играть».
Наши певцы онемели, потому что Джимми был «умирающий человек». По той же причине «ни один малый, — как заметил Ноульс, — не смел вогнать гвоздь, чтобы повесить на него свои жалкие лохмотья, без того, чтобы ему тотчас же не дали понять, какую гнусность он совершает, нарушая покой нескончаемых последних минут Джимми». Ночью, вместо веселого окрика: «Первая склянка, вылезай. Слышите вы там, эй вы! Хэй, хэй, хэй! Высунь нос!» — вахтенных выкликали шепотом, поодиночке, чтобы как-нибудь не потревожить последнего сна Джимми на земле. Правда, на самом деле, он никогда не спал и всегда умудрялся пустить нам в спину какое-нибудь язвительное замечание, когда мы, едва дыша, выскальзывали на палубу. После этого мы обыкновенно чувствовали себя с минуту грубыми животными, а немного погодя начинали ругать себя дураками. На баке мы говорили так тихо, словно это была церковь. Мы молчаливо и испуганно проглатывали свой обед, потому что Джимми был привередлив насчет пищи и жестоко негодовал на солонину, сухари и чай, словно эти продукты вообще не были пригодны для человеческого питания — «а так только, разве для умирающего». Он говорил: «Неужели нельзя найти ломтик мяса получше для больного человека, который хочет добраться домой, чтобы подлечиться или лечь в могилу? Как бы не так! Если бы только представился случай, вы бы живо отправили меня на тот свет, ребята. Просто отравили бы. Посмотрите, что вы мне дали». Мы подавали ему в постель, страдая при этом от ярости и унижения, словно какие-нибудь царедворцы, пресмыкающиеся перед ненавистным тираном; и он награждал нас за это своим непримиримым критицизмом. Он обладал секретом вечно поддерживать на поверхности слабость и глупость, заложенные в глубине человеческой натуры. Он обладал секретом жизни, этот проклятый умирающий, и он сделался настоящим властелином каждого мгновения нашей жизни. Мы приходили в бешенство, но продолжали оставаться покорными. Горячий маленький Бельфаст вечно находился то на границе возмущения, то на границе слез. Однажды он поделился с Арчи: «За полпенни я проломил бы этому трусливому мошеннику его уродливую башку!» — и прямодушный Арчи сделал вид, будто оскорблен таким заявлением. Вот какими бесовскими чарами опутал нашу простодушную компанию этот чужой негр из Сант-Китта. Но в ту же ночь Бельфаст, чтобы угодить прихотливому Джимми, стащил из кухни воскресный фруктовый торт, приготовленный для офицеров. Он поставил на карту не только свою давнишнюю дружбу с поваром, но сверх того, — как выяснилось потом, — и свое вечное блаженство. Повар был подавлен горем. Он не знал, кто совершил преступление, но ясно видел, что зло процветает; он чуял, что на борту среди этих людей, которых он считал до некоторой степени под своей духовной опекой, поселился сам сатана. Только завидит он бывало троих или четверых вместе, тотчас бросит свои кастрюли и бежит к ним проповедовать. Мы обыкновенно спасались от него бегством, и только Чарли, который знал вора, встречал повара чистосердечным невинным взглядом, раздражавшим добряка хуже дерзости: