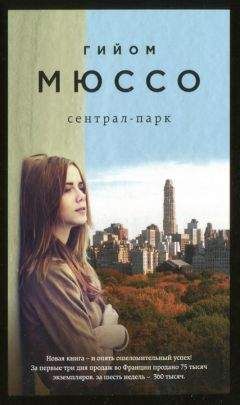Оба врача сочли, что больной не стало лучше и пора прибегнуть к первому способу переливания крови — перекачиванию непосредственно от донора; это должно хорошо подействовать на нее, если только организм усвоит кровь. Прежде чем приступить к переливанию, врачи еще раз обратились к Хеймекеру, и он, чувствуя себя бесконечно виноватым, просил их не останавливаться ни перед какими расходами. Если ее жизнь в опасности, пусть ее спасут любыми способами, чего бы это ни стоило. Ее жизнь так дорога и ему и детям, говорил он. Ну, вот, он сделал все, что мог, все, что от него требовалось, кроме одного: даже теперь, помимо собственной воли, он не мог от души пожелать ей выздоровления. Наглухо замкнутый в кругу приличий и обязанностей, он был слишком измучен. Но если она оправится — врачи считают, что переливание крови поможет, — даже если она окончательно победит болезнь, придется увезти ее на лето куда-нибудь в горы и долгие, долгие дни быть с ней с глазу на глаз, пока она не поправится. Что ж, он не станет жаловаться. Ну, разумеется. Он это сделает. Конечно, ему будет тошно, как всегда, но было бы уж слишком бесчеловечно — дать ей умереть, когда есть возможность спасти ее. Да, это так. Но только...
Он отправился в контору, а тем временем ей сделали переливание крови, и, по-видимому, удачно. Дневная сиделка позвонила ему в три и сказала, что миссис Хеймекер лучше, гораздо лучше. Больше ему не звонили, а в половине шестого он вернулся домой и зашел взглянуть на Эрнестину — она полулежала на подушках и казалась совсем бодрой, давно уже она не была такой.
И сразу его настроение снова изменилось. Удивительно, как непостоянны его желания, смена их происходит без участия его воли, так же как любой жизненный процесс в организме, и это очень странно для человека, который, казалось бы, знает себя; а впрочем, может ли вообще человек знать, чего ему надо? Теперь она не умрет и все опять пойдет по-старому. Да, конечно. Что ж, остается только покориться, снова свыкнуться все с той же мыслью, что жизнь загублена. Теперь ему никогда уже не стать свободным. Все снова пойдет по-старому, и завтра и послезавтра одно и то же... Ужасно! Конечно, очень хорошо и отрадно, что она бодра, что есть надежда поставить ее на ноги, — и все-таки... все пошло прахом, он связан, связан навсегда. Ночью, лежа в постели, он говорил себе: «Теперь она поправится. Все пойдет по-старому. И я никогда уже не буду свободен. У меня не будет ни одного дня, ни одного! Никогда!»
А на другое утро с удивлением и испугом, а может быть, и с тайной радостью он узнал, что ей опять хуже, и опять упрекнул себя за черные мысли. Может быть, он убивает ее этими мыслями? Этими бесконечными колебаниями? Может быть, его недобрые желания имеют какую-то силу? Чем он лучше убийцы? Подумать только, а вдруг отныне он всегда будет сознавать, что убил ее своими мыслями? Ведь это будет просто невыносимо, как тогда жить? Почему он такой? Неужели ему чужды обычные человеческие чувства?
В половине десятого приехал доктор Сторм, вызванный по телефону сиделкой; он был особенно серьезен и сказал, что теперь надо попробовать лошадиную кровь: она гуще человеческой и, введенная в виде сыворотки, лучше воспринимается организмом. Хеймекер был вне себя, его мучили угрызения совести, тоска, страх. Конечно, всему виной то темное, злое, что он передумал прошлой ночью и вообще в последние дни. Неужели он в глубине души убийца, тайный преступник, задумавший убить ее, — и за что? Почему еще минувшей ночью он желал ей смерти? Теперь, как видно, ее положение безнадежно.
— Сделайте все, что только в ваших силах, — сказал он доктору Сторму. — Если еще можно спасти ее, спасите, не останавливаясь ни перед чем.
— Конечно, мистер Хеймекер, — сочувственно ответил врач. — Будет сделано все, что возможно. Будьте спокойны. Я думаю, мы просто вчера ввели слишком маленькую дозу; кроме того, человеческая кровь недостаточно густа для данного случая. Вливание, конечно, поддержало больную, но этого еще мало. Посмотрим, что можно сделать сегодня.
Дела не ждали, и Хеймекер, угнетенный и подавленный, отправился в контору. Он снова решил больше никогда не давать волю черным мыслям и желаниям, избавиться от них, чего бы это ему ни стоило. Они бесчеловечны. И в конце концов какими-нибудь тайными, неведомыми путями они обратятся против него самого. Эти мысли, наверно, губят Эрнестину. Пусть она выздоровеет, если это возможно, он не должен ей мешать. Да, как ни тяжело, придется снова принести себя в жертву. Иначе и нельзя поступить. Что уж теперь жаловаться, когда чуть ли не вся жизнь позади! И что значат еще несколько лет?
Он вернулся домой успокоенный — теперь он полон добрых намерений, и сиделка в три часа сообщила по телефону, что жене гораздо лучше. Второе вливание прекрасно подействовало. Оно, несомненно, помогло ей. У нее прибавилось сил, и она даже некоторое время сидела в постели. Когда в пять часов он зашел к ней, она лежала бледная, слабая, но глаза стали живее, щеки как будто чуть порозовели, и она едва заметно улыбнулась ему, — сразу чувствовалось, что ей лучше. Как внимателен доктор Сторм, какой он прекрасный врач! И как находчив! Только бы она теперь выздоровела. Только бы миновала эта страшная опасность! В восемь доктор Сторм снова придет.
— Ну, как ты, дорогой? — спросила Эрнестина, взяв его руки в свои и с любовью и нежностью глядя на него.
Он наклонился и поцеловал ее в лоб, и на сей раз это уже не показалось ему поцелуем Иуды. Сегодня он добр и великодушен, ему искренне хочется, чтобы она осталась жить.
— Я-то хорошо, дорогая, а вот как ты? На улице уже настоящая весна. Скорей выздоравливай, в такие дни грешно хворать.
— Я скоро поправлюсь, — тихо ответила она. — Мне гораздо лучше. А как твои дела? Как подвигается твоя работа?
Он кивнул, улыбнулся и стал рассказывать ей кое-какие новости. Звонила Этельберта, сказала, что придет и принесет фиалок. В шесть часов приедут Уэсли с Ирмой. Знакомые справлялись о ее здоровье. Как мог он быть таким бессердечным? — спрашивал он себя. — Как мог желать ей смерти? Она не такая уж плохая, она даже по-своему милая, кому-нибудь другому она была бы идеальной женой. У нее такое же право жить и наслаждаться жизнью, как и у него, и в конце концов она — мать его детей, и они столько лет прожили вместе. Да и день выдался такой хороший, вот и сейчас за окном чудесный майский вечер. А какой воздух, какое небо!.. И все подернуто нежно-лиловой дымкой. Звонит телефон, опять кто-то справляется о состоянии Эрнестины. Горничная говорит, что звонят без конца, особенно сегодня, и подает ему длинный список. Интересно, у Эрнестины, оказывается, больше друзей, чем у него, — такая она добрая, порядочная, достойная женщина. Зачем желать ей зла?
Он обедал с Этельбертой и Уэсли и весело болтал с ними; давно он не чувствовал себя так легко. Бесконечные за и против больше не мучили его, и на душе было спокойно. Он расспрашивал детей, как они живут, как внуки. В половине девятого опять приехал доктор Сторм и заявил, что, судя по всему, дела миссис Хеймекер пошли на поправку.
— Я полагаю, теперь есть надежда на полное выздоровление, — сказал Сторм. — Если одна-две ночи пройдут благополучно, без ухудшения, я думаю, что все уладится. У нее как будто прибавилось сил. Однако успокаиваться еще рано. Это очень коварная болезнь. Посмотрим, как больная будет чувствовать себя завтра, может быть, понадобится еще одно переливание крови.
Сторм ушел, а в девять часов уехали и Этельберта с Уэсли, попросив звонить им, если матери станет хуже, и он снова остался один. Он сел и задумался. Потом на несколько минут заглянул к жене — сегодня, как и все эти дни, врач предписал ей полный покой — и пошел спать. Было одиннадцать часов. Он очень устал. Противоречивые мысли истерзали его, нечистая совесть мучила, и он все время чувствовал себя усталым, но сегодня он непременно уснет. И сам он не совсем уж плох, да и жизнь не так уж плоха. Сегодня он думал и поступал, как надо. Нельзя было поддаваться тем черным мыслям. И все же... все же...
Он лежал на кровати и смотрел в окно, ему виден был уголок парка: покрытые нежной весенней листвой, серебрились под луной деревья, блестел край озера. Здесь, в городе, каждый кустик, каждый зеленый уголок такая редкость, только богатый человек может себе это позволить. В юности Хеймекер был прямо влюблен в воду, его радовало каждое озерко, пруд, ручеек. В юности он любил гулять по ночам при луне. Это всегда навевало мысли о любви, о счастье, а он так страстно мечтал о любви и о счастье, но мечты его не сбылись. Однажды он сделал проект яхт-клуба, фундамент был облицован искусно отесанным камнем — точно застывший прибой лизал стены. В другой раз, много лет назад, он задумал построить дачу или загородный дом для себя и для той — удивительной, чудесной, которая, быть может, полюбит его, если он будет когда-нибудь свободен. Как это было бы необыкновенно хорошо! Но теперь, в этот час, самая мысль об этом казалась кощунственной, жестокой, злой, эгоистичной, безнравственной... и ведь все равно уже слишком поздно. Он отвернулся от окна, за которым все залито было лунным светом, и вздохнул, — надо спать, надо отогнать от себя эти старые, темные и вместе с тем такие сладкие мысли... и он отогнал их.