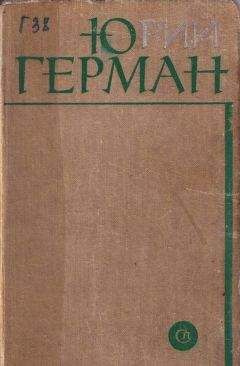— Пьеска прелестная, — вдруг сказал старик, — необыкновенно грациозно написанная и колоритная и все такое, и даже проблемная в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей…
Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:
— Побольше бы таких пьес!
Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.
— Это, конечно, и к проститутке относится, — вновь заговорил Лапшин, — и ко всем решительно. Безработицы у нас нет, основная база этого ремесла разрушена. Все остальное — психология. Мало ли там слабых и психически неустойчивых? Эдак любую, самую невероятную, подлость оправдать можно. Дескать, неуравновешенный. Мне дела, знаете ли, нет, кто мне горло перерезывает: уравновешенный или неуравновешенный. Ежели не болен, то и отвечай по-нашему, по-советскому, по закону. Верно я говорю?
— Верно! — сказал толстый старик и захохотал, тряся головой. — Верно, батенька, я сам с шулером на Волге играл, и тот из меня три тысячи двести рублей кровных сбережений вытянул. Не могу я симпатягу из шулера разыгрывать, коли мне до сих пор тошно, как вспомню. Я лучше сам себя сыграю, какой я был в те поры хороший и чистый.
Все засмеялись, и Лапшин сказал улыбаясь:
— Правильно, конечно. Прожили мы почти двадцать лет, нечего валять дурака. Сидит у меня сейчас один мальчик — Карлуша Гринблат. Из хорошей рабочей семьи, а сам прохвост, начал свою деятельность с того, что воровал в годы первой пятилетки баббит с завода. Не хватало ему на «красивую» жизнь. Ну и что, ну и не хватало, так сейчас бы хватило. Для него, дурака, старались, верно? Так ведь что? «Во мне, говорит, проклятое прошлое!» Как вам правится? — А ты, спрашиваю, это прошлое видел? Когда Октябрьская революция ударила, ты еще в Африке вороной летал. — Молчит.
Лапшин выжидательно оглядел артистов. Все молчали, и Лапшин ясно понял, что все то, о чем он говорил, артистов не устраивало по каким-то причинам, ему неизвестным. Довольными были только девушка в берете и старик артист с большой нижней челюстью, который сидел рядом с нею.
— Так-то! — среди общего молчания сказал старик, — Выходит, что мы с Адашовой правы, а не Викентий Борисович.
Завязался вдруг непонятный Лапшину спор. Все набросились на старика с челюстью, и Лапшин с досадой думал о том, что это совершенно его не касается, что он хочет есть и спать.
Когда спорить перестали, ему уже было лень говорить. Он встал и сказал, что кто из товарищей хочет поближе познакомиться с делом, тот может заходить к нему в любое время, разговаривать же на общие темы, по его мнению, не стоит.
Все начали говорить, что на общие темы тоже чрезвычайно интересно и что они уже многое получили и пусть Лапшин еще побеседует.
Зазвонил телефон.
— Так вот, товарищи, — сказал Лапшин, переговорив и вешая трубку, — я должен только добавить несколько слов по поводу того, что называется в просторечии перестройкой…
И, посасывая зажеванный мундштук потухшей папиросы, он деловито и коротко заговорил о том, что в перестройке основным является профессия, что людям дают профессию и таким путем превращают их из люмпенов в трудящихся.
— Затем дело, работа, — говорил он, — строится канал или плотина — люди видят плоды своих рук…
Вынув связку ключей, он открыл шкаф и достал оттуда свою гордость — большие, унылого вида альбомы с фотографиями.
— Поглядите! — говорил он небрежным тоном. — Тут у меня кое-что собрано, я лет пятнадцать собираю…
И, раздав на руки альбомы, он с тревогой следил, как бы не выпала и не затерялась фотография, как бы кто-нибудь не поцарапал эмульсию на карточках, как бы не перегнули листа…
— Это все мои крестнички, — говорил он, наклоняясь над артисткой в берете и над стариком, который с довольным лицом потирал свой длинный подбородок. — Но тут просто портреты, а вот этот альбом куда занятнее…
И придвинув одним движением своей сильной руки тяжелый, из дуба, столик, он раскрыл на нем папку и стал показывать фотографии, поглядывая то на Адашову, то на старика с тем выражением глаз, которое бывает у художников, показывающих свою картину.
— Тут, знаете, мы кой-чего разыграли, — говорил он, — такие как бы живые картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вон он, лично я в кепке, налетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано, — говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика, — здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уже я в форме… А здесь я опять налетчика разыгрываю…
— Чудно! — сказала Адашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся и розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.
— Верно, ничего разыграли? — весело и просто спросил он. — Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?
— Все очень живо и естественно, — сказала Адашова, — напрасно вы думаете…
— Смеялись мои ребята, — говорил Лапшин, — цирк прямо был…
И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он очень понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да еще по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.
— Да ну, — говорил он посмеиваясь, — так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?
— А Ленька Пантелеев? — спросил артист с бритым лбом.
— Да ну что! — сказал Лапшин. — Ну бандит… Это все писатели выдумали, нам их не обскакать…
Ему было досадно, что артисты спрашивают о страшном, а не о том, о чем действительно стоит рассказывать и что действительно помогло бы им в будущем спектакле, и он, сделай вежливое лицо, стал забирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.
— А вот скажите, это убийство тройное на днях было, — спросила старая артистка с двойным подбородком. — Как вы себе представляете психологию убийцы?
— Не знаю, — сказал Лапшин. — Бандит еще не найден.
— Ах, так! — любезно сказала артистка.
— Да, — сказал Лапшин, — к сожалению.
Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.
— А вот скажите, — спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок, — убийства на почве ревности, страсти роковые вам случалось видеть?
— Случалось, — сказал Лапшин.
— И… как же? — спросил артист.
— Я работаю по преступности много лет, — сухо сказал Лапшин, — мне трудно ответить вам коротко и ясно.
— Ну, спасибо вам! — сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками. — Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас.
— Пожалуйста! — сказал Лапшин.
Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через три ступеньки по служебной лестнице, с удовольствием представлял себе Адашову. Машины у подъезда еще не было. Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая после тяжелого дня огромную, белую от снега площадь, он вдруг услышал голос одного из актеров с досадой говорившего:
— Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Чиновник, тупой и человек и грубиян в довершение!..
Мимо табунком прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:
— Чинуша, чинодрал, фагот!
«Почему же фагот? — растерянно подумал Лапшин. — Что он, с ума сошел?»
Сидя за рулем машины, он по привычке припоминал той разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что он был прав, коротко отвечая на пространные вопросы, что отвечать иначе на эти вопросы решительно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав он, Лапшин, а не артист в крагах.
«И не чиновник я, — рассуждал Лапшин, — и не чинуша, — это ты врешь. Сам ты, вероятно, чинуша, а я нет. Правда, я грубоватый иногда, по нельзя же такие тупые вопросы задавать! И вообще чудак народ! — неодобрительно, но уже весело думал Лапшин, нажимая кнопку сигнала, — ему очень хотелось проехать между трамваем и автобусом, а автобус не уступал, — чудак, ей-богу, чудак».
И, позабыв о неприятном старике в крагах, он стал думать про Адашову и про то, как она похвалила его фотографии.
Васька от безделья и скуки обзвонил всех своих знакомых и сообщил, что болен, поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон беспрерывно трещал, и Васька живым голосом поминутно с кем-то объяснялся. Пока обедали, Лапшин терпел, потом сказал:
— Довольно! Надоело! Сними трубку!
Он разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос передавал «Крестьянскую газету», потом кто-то сказал: