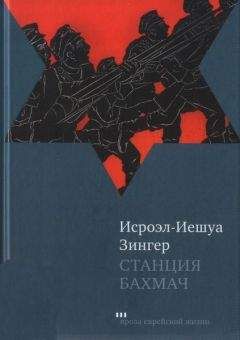— Шимен, Лейви, — взывала она со своей вдовьей постели, — отец, мир праху его, пропадет, не дай Бог, из-за вас в преддверии ада[58].
Когда это не помогало, она переходила к более практическим предостережениям:
— Шимен, Лейви, мне ж перед людьми стыдно… Мне же глаза готовы выцарапать из-за этих распрекрасных суббот, которые вы устраиваете…
Но Шимена и Лейви не беспокоило ни то, что люди выцарапают матери глаза, ни то, что их отец пропадет на том свете в преддверии ада.
Преданные сыновья, стремящиеся скрасить матери ее вдовство, достать для нее, как говорится, тарелочку с неба, они, однако, ни за что не хотели уступить ей в том, что касалось благочестия и приличного поведения. Радость выплескивалась из них, рвалась наружу из их смуглых красивых молодых тел, из их кудрявых шевелюр, из их черных глаз и молочно-белых зубов. Они ни за что не хотели учить мудрые и строгие слова «Поучений отцов», как того желала их мать, а предпочитали проводить время в компании: пить пиво, петь, смеяться и озорничать. Их гости, перелицовщики, также не желали прекращать веселые сборища по субботам к досаде всех добрых и благочестивых людей в местечке.
У предприимчивых перелицовщиков не было ни капли почтения к хозяевам портновских мастерских, поскольку им, этим перелицовщикам, в отличие от портных-надомников, не нужно было приходить к хозяину и ждать, пока тот даст им работу; они сами скупали вещи у крестьян, сами их перешивали и сами продавали на ярмарках и рынках, причем не только в Долинце, но и во всех окрестных местечках, зашибая при этом хорошую деньгу. Из-за этого, а также из-за того, что им приходилось часто разъезжать по дорогам, останавливаясь на постоялых дворах и в шинках, эти мастеровые были довольно-таки распущенными парнями, привычными и к выпивке, и к фаршированным горлышкам и гусятине по будням. Они не слишком-то утруждали себя омовениями рук и благословениями[59], а иногда, когда на минху и майрев было мало времени, они даже наскоро комкали молитвы. Также, наслушавшись в поездках разных анекдотов, скабрезностей и легкомысленных песенок, перелицовщики привыкли легко относиться к женщинам. Бесшабашнее всех были братья Шимен и Лейви. Хоть и моложе других перелицовщиков, еще неженатые, братья были сами себе хозяева, работали на нескольких швейных машинках, которые их отец-портной оставил им в наследство, и славились как большие ловкачи и рвачи среди продавцов перелицованной одежды на ярмарках и базарах. У братьев были смазливые физиономии и язык без костей, своими шутками и прибаутками они привлекали к своей палатке молодых крестьян, а еще больше — крестьянских девок и молодух, с которыми заигрывали, пока те примеряли кофточки и жакетки. После каждой ярмарки, на которых им везло все больше и больше, они все короче подстригали свои юношеские бородки, так что со временем от этих бородок ничего не осталось, кроме иссиня-черных пятен на щеках.
Даже долинецкий раввин со своей близорукостью заметил, что с бородками «колен» случилось чудо, и прямо в синагоге, на глазах у всех, пожелал узнать, в чем тут секрет.
— Шимен и Лейви, я задам вам вопрос, — протяжно задал раввин свой вопрос на мотив «Что отличает»[60], — что ж это у других людей борода на лице растет наружу, а у вас она растет наоборот: снаружи внутрь?..
В том же духе раввину приходилось иметь с ними дело и по будням, когда они являлись с утра в синагогу на йорцайт. Дело было в том, что братья купили где-то в большом городе необыкновенно маленькие тфилн, крохотные, блестящие, с узенькими, как ленточки, ремешками. Долинецкий раввин с великим удивлением смотрел на эти маленькие тфилн, подобных которым он в жизни не видел. Он никак не мог взять в толк, как в этих крошечных тфилн помещаются написанные на пергаменте стихи Торы. Насколько мелкими были тфилн братьев, настолько же пышными были их шевелюры, такие лохматые и кудрявые, что малюсенькие «шел рош» просто терялись в них, проваливаясь как Корей сквозь землю[61]. И долинецкий раввин велел парням либо купить тфилн побольше, либо состричь дикие лохмы или лучше пусть вообще тфилн не накладывают.
Хотя Эстер-Годес, вдова портного, по субботам не стояла в первом ряду в вайбер-шул, а в будние дни вообще не ходила молиться, так как была слишком занята горшками на кухне, она все равно узнала о том, что потребовал раввин от ее сыновей. Люди передали ей каждое его слово, и она чуть было не умерла от стыда.
— Шимен, Лейви, я, не дай Бог, жизни лишусь из-за вас, — сокрушалась она, — сыночки, одумайтесь…
Однако Шимен и Лейви не желали одумываться и делали все, чтобы подразнить раввина и долинецких обывателей. Они распевали на своих субботних сборищах насмешливые песенки о раввине и его полуслепых глазах, высмеивали хазана, шойхета и шамеса, обо всех сплетничали, всем кости перемывали, во все общинные дела вмешивались и по любому поводу высказывались. На одном из таких субботних сборищ, когда солнце было особенно жарким, а пиво особенно холодным, им пришло в голову, что перелицовщики всей оравой должны взять судьбу старого холостяка Фишла Майданикера в свои руки и свести его с невестой на смотринах.
Как всегда, Пелте Козлу поручили организовать сватовство и отвести рыжебородого жениха на смотрины к невесте.
Пелте Козел не был шадхеном. Он был всего-навсего портным, и даже не перелицовщиком, а обычным ремесленником, который шьет одежду для евреев. Но он водился с ватагой перелицовщиков и не пропускал ни одного субботнего сборища в доме Шимена и Лейви. Старше всех собравшихся, с изрядной бородой, женатый, отец многочисленного семейства, мал мала меньше, и к тому же отчаянный бедняк, бедней не бывает, он, однако, любил компанию молодых, ушлых и веселых перелицовщиков, любил смеяться и озорничать с ними, ходить с ними в шинок и там лакомиться гусиными пупками по будням и отдавал последние гроши на их цеховые пирушки. Также и в синагоге он стоял не среди прочих ремесленников, а рядом с перелицовщиками, которые годились ему в сыновья. С ними он болтал во время молитвы, с ними связывал евреям цицес на их талесах, ставил подножки тем, кто выходил читать шмоне-эсре, насыпал детям в ноздри нюхательный табак и рассказывал хедерным мальчикам о том, что происходит между мужчиной и женщиной. Копл-шамес стыдил его за это, никогда не вызывал к Торе, кроме как на Симхас-Тойре, да и то с подростками. А Пелте Козлу только того и надо было: он, сияя от радости, вытворял вместе с мальчишками, укрывшись талесом, всякие глупости. Из-за такого поведения обыватели у него почти ничего не заказывали, хотя о нем говорили, что руки у него золотые. Нередко на него находила дурь, тогда он останавливал швейную машинку посреди работы и, никому ни слова не сказав, бросал на неделю жену и детей.
Зелда, жена Пелте, вечно кормящая, вечно на сносях, ужасно неряшливая и дико крикливая, распекала мужа, тащила к раввину, крича на весь рынок, что он разбойник, выкрест и убийца жены и детей. Но Пелте спокойно выслушивал все ее оскорбления, равно как и все порицания и упреки обывателей, их жен и даже самого раввина. Если уж он пускался во все тяжкие, то никакие упреки и порицания не могли вернуть его от разгула к ножницам и утюгу. Он знал, что его презирают, считают пропащим, но ему было плевать. Точно так же ему было плевать на то, что Эстер-Годес, вдова портного, гонит его по субботам из своего дома, грозясь наподдать веником или облить из помойного ведра. Если Эстер-Годес еще могла простить молодых загулявших перелицовщиков, то Пелте Козла, нищего отца семейства, она простить не могла.
— Ступайте к своей Зелде, безмозглый вы человек, — наступала на него Эстер-Годес. — Она мне устроит черную субботу из-за вас и будет права.
Пелте не отвечал ни слова и увивался вокруг Шимена и Лейви, как шамес вокруг раввина. Он из благодарности за то, что братья принимают его (не ровню ни по возрасту, ни по положению) в свою компанию, старался им всячески услужить: бегал в трактир за пивом, подавал на стол, носил любовные записочки тем девушкам, которых эти парни любили, и мелом писал стыдные слова на дверях и ставнях тех девушек, на которых у парней был зуб. Шимен и Лейви были с Пелте не разлей вода, поверяли ему все свои тайны. Потому-то они и поручили Пелте оженить скупщика щетины Фишла Майданикера.
Назавтра Пелте даже не подошел к швейной машинке, хотя ему нужно было закончить заказ, и чуть свет направился в пекарню Йойносона, где побродяга Фишл обычно ночевал в углу на мешках. Усевшись рядом с ним на набитом щетиной мешке, Пелте принялся с жаром рассказывать ему о счастливой партии, которая у него есть для Фишла.
Фишл Майданикер, выслушав Пелте, не поверил своим большим красным ушам. Пелте, не давая перебить себя, гладко, складно и благочестиво перечислил все достоинства невесты, о которой шла речь. Она, эта девушка, — сирота, круглая сирота без отца-матери и его, Пелте, ближайшая родственница. К тому же она из деревни, чистая и набожная душа, не то что городские девицы, гордячки и зазнайки; эта будет ему, Фишлу, предана, верна, будет почитать его, как царя. Фишл снова не поверил своим ушам и хотел было возразить: дескать, такая девушка наверняка даже не захочет, как и другие, смотреть на него. Но Пелте снова не дал ему слова вставить и успокоил тем, что он уже все-все рассказал ей, той девице то есть, о Фишле, о его щетинной торговле, о его возрасте, но она, эта его родственница, согласна, и она сделает все, что он, Пелте, ее родственник и заступник, ей велит. Впрочем, он, Фишл, не обязан верить ему на слово, а может увидеть ее, эту девицу, собственными глазами, а не покупать кота в мешке. Он, Пелте, заглянет к ней в деревню, в Ярлицы, где она в прислугах у тамошнего арендатора, привезет ее на субботу в Долинец, а субботним вечером, после гавдолы, он сведет ее с ним, с Фишлом, и устроит смотрины. Если они понравятся друг другу, то и говорить больше не о чем, мигом соберется миньян, портные с его, Пелте, стороны, и останется только разбить тарелку. Ну а если она, невеста то есть, ему, Фишлу, не приглянется, он, Пелте, не будет ни на чем настаивать, и делу конец. Он, Фишл, останется при своем, а она, круглая сирота то есть, вернется в Ярлицы к арендатору, у которого она в услужении.