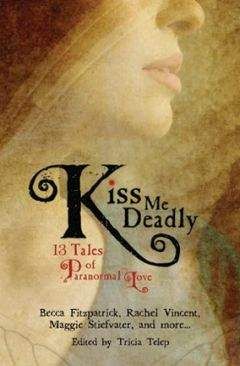Теперь нам легко подвести итоги этому полуполитическому обозрению. Отсутствие широкого кругозора и великое множество мелких ошибок; старания каждого вернуть утерянное богатство; при существенной необходимости религии для поддержания политики — жажда наслаждений, которая вредила религии и порождала лицемерие; одинокое противодействие некоторых светлых голов, судивших справедливо и возмущённых интригами двора; положение провинциального дворянства, нередко более родовитого, чем придворная знать, но озлобленного обидами и несправедливостью, — все эти причины породили раздоры и расшатали нравы Сен-Жерменского предместья. Дворянство не было ни твёрдым в принципах, ни последовательным в действиях, ни истинно нравственным, ни откровенно порочным, ни развращённым, ни развращающим; оно не отступилось окончательно от замыслов, которые ему вредили, и не усвоило идей, которые могли бы его спасти. Наконец, хотя представители дворянства были жалки и слабы, тем не менее партия в целом была вооружена высокими принципами, руководящими жизнью нации. Впрочем, много ли нужно, чтобы погибнуть в расцвете сил? Дворянство было весьма разборчиво в выборе приверженцев, оно обладало хорошим вкусом, изящным высокомерием; но в его крушении, право, не было ни блеска, ни рыцарского благородства. Эмиграцию 1789 года ещё можно объяснить возвышенными чувствами, но «эмиграция» 1830 года, эта, так сказать, внутренняя эмиграция, объяснялась, по существу, только личными интересами. Несколько даровитых писателей, несколько блистательных ораторских выступлений, г-н де Талейран на конгрессах, покорение Алжира, многие имена, вновь покрывшие себя славой на полях сражений, — вот примеры, указующие французским аристократам единственный путь, чтобы вернуть своё национальное значение и, если соизволят того пожелать, — добиться признания своих громких титулов.
В живом организме все находится в гармонии. Если человек ленив, то каждым своим движением выдаёт леность. Совершенно так же в облике целого класса людей отражается общая идея, дух, оживляющий тело. Во времена Реставрации женщина Сен-Жерменского предместья, далеко уступая дамам старого королевского двора, не умела проявить ни гордой смелости в любовных похождениях, ни скромного величия поздней добродетели, которой те дамы искупали свои прегрешения и создавали себе столь громкую славу. Женщина времён Реставрации была не очень легкомысленна и не очень строга. Страсти её, за редкими исключениями, были лицемерны, она, если можно так выразиться, вступала в сделку со своими наслаждениями. Некоторые из дам вели скромную семейную жизнь, подобно герцогине Орлеанской, чьё брачное ложе так глупо выставлено было напоказ в Пале-Рояле; другие, не больше двух или трех, возродили нравы Регентства, вызвав отвращение среди прочих, более осторожных и скрытных, чем они. У такой знатной дамы нового типа не было никакого влияния в обществе; между тем она могла бы многого достичь, могла бы, например, за неимением лучшего, взять за достойный образец английскую аристократку; но она растерялась, глупо запуталась среди старых традиций, стала набожной по принуждению и затаила в себе все, даже лучшие свои качества. Ни одной из этих француженок не удалось создать салон, куда бы стекались выдающиеся общественные деятели, чтобы учиться изяществу и тонкому вкусу. В литературе, этом живом олицетворении общества, голос женщины, некогда столь внушительный, потерял всякое значение. А ведь когда в литературе нет объединяющего принципа, она бессильна и отмирает вместе с веком. Если когда-нибудь в недрах нации образуется подобный обособленный мирок, историк почти всегда находит в нем наиболее характерную фигуру, воплощающую в себе все достоинства и недостатки той группы, к которой принадлежит. Таков был Колиньи у гугенотов, коадьютор во время Фронды, маршал Ришелье при Людовике XV, Дантон во время Террора. Это сходство между вожаком и его приверженцами заложено в природе вещей. Чтобы вести за собой партию, не надо ли полностью разделять её идеи? Чтобы прославиться в какую-нибудь эпоху, не должно ли её олицетворять? Мудрый и дальновидный предводитель постоянно зависит от толпы, которую он ведёт за собой, и часто принуждён подчиняться её предрассудкам и диким причудам, что ставят ему в вину позднейшие историки, когда, вдалеке от грозных народных восстаний, они холодно обсуждают его поступки, не понимая, какие бурные страсти необходимы, чтобы руководить великой вековой борьбой. То, что верно для исторической комедии многих столетий, одинаково справедливо и для более узкой сферы — отдельных сцен народной драмы, именуемой Нравами.
В первые годы недолговечной беззаботной жизни дворянства при Реставрации, жизни, которой, если наши рассуждения правильны, оно не умело придать значительность, в Сен-Жерменском предместье жила молодая женщина, представлявшая собою в то время самый яркий образец своей касты, ее силы и слабости, ее величия и ничтожества. Она казалась блестяще образованной, но по существу была невежественна; была полна возвышенных чувств, но не способна их осмыслить; она расточала богатейшие сокровища души, чтобы соблюсти светские приличия; готова была бросить вызов обществу, но колебалась, трусила и лицемерила; в ней было больше упрямства, чем силы характера, больше восторженности, чем воодушевления, больше рассудочности, чем сердца; притом она была в высшей степени женщина и в высшей степени кокетка — словом, парижанка до мозга костей; любила роскошь и празднества; не рассуждала или рассуждала слишком поздно; была почти поэтична в своем безрассудстве; дерзка на удивление, но в глубине души скромна; казалась стойкой и прямой, как тростник, но, как тростник, способна была согнуться под сильной рукою; много говорила о религии, но не любила ее и, однако, готова была искать в ней спасения. Как объяснить противоречия этой сложной натуры, способной на подвиг великодушия, но забывающей о великодушии ради язвительной шутки; юной и нежной, но с черствым сердцем — черствым не по природе, а зачерствелым под влиянием идей, внушенных окружающими; зараженной эгоистической философией своей среды, не применяя ее на деле; наделенной низкими пороками придворных и глубоким благородством молоденькой девушки; недоверчивой и подозрительной, но готовой иногда всему поверить? Возможно ли завершить этот женский портрет, где самые пленительные краски резко контрастируют, тона смешаны в живописном беспорядке и только цветущая юность, словно божественный луч, объединяет эти смутные черты общим колоритом? Ее грация создавала гармонию целого. В ней не было ничего искусственного. Все ее страсти, пристрастия, великие притязания и мелочные расчеты, холодные чувства и пламенные порывы были естественны и обусловлены как ее собственным положением, так и положением аристократии, к которой она принадлежала. Она считала себя единственной и надменно взирала на всех с высоты своего величия, гордясь своим громким именем. В герцогине было высокомерие Медеи, как и во всей аристократии, которая, умирая, не соглашалась ни подняться с постели, ни обратиться за помощью к какому-нибудь целителю политических недугов, не желала шевелиться, не позволяла к себе притронуться, так как чувствовала, что слишком слаба и уже обращается в прах. Герцогиня де Ланже — так звали эту женщину — была уже четыре года замужем, когда завершилась Реставрация, то есть когда, в 1816 году, Людовик XVIII, наученный горьким опытом Ста дней, понял наконец свое положение и условия времени, несмотря на противодействие своих приближенных, которые, впрочем, потом, когда болезнь сломила короля, восторжествовали над этим «Людовиком XI, только без секиры». Герцогиня де Ланже, урожденная де Наваррен, происходила из древнего рода герцогов де Наварренов, которые еще со времен Людовика XIV держались правила не поступаться своим титулом при заключении брачных союзов. Дочерям этой семьи предстояло в свое время, по примеру матерей, получить «табурет» при дворе. Антуанетта де Наваррен жила в глубоком уединении до восемнадцати лет, когда ее выдали замуж за старшего сына герцога де Ланже. В то время оба семейства удалились от света, но вторжение войск коалиции во Францию пробудило в роялистах надежду на возвращение Бурбонов как на единственную возможную развязку кровопролитной войны. Герцоги де Наваррены и де Ланже, сохраняя верность Бурбонам, благородно отвергали все соблазны императорского двора; одинаковое положение и общность интересов обоих семейств к моменту заключения брака, естественно, заставили их последовать древней фамильной традиции. Итак, мадемуазель Антуанетта де Наваррен, бедная и прекрасная, обвенчалась с маркизом де Ланже, отец которого умер несколько месяцев спустя после свадьбы. После реставрации Бурбонов обе семьи вернули себе прежнее положение, права и должности при дворе и снова приняли участие в общественной жизни, от которой доселе держались в стороне. Они стали наиболее выдающимися фигурами в этом новом политическом мирке. Общественное мнение, на общем фоне измен и предательств, не могло не оценить в этих двух фамилиях их безупречной верности и полного соответствия между политическим лицом и частной жизнью — достоинств, которые у всех партий вызывают невольное уважение. Но по несчастной случайности, довольно обычной в эти годы соглашений и сделок, самые достойные люди, с возвышенными идеями, с мудрыми принципами, способные оправдать надежду на великодушие и смелость нового курса политики во Франции, были отстранены от дел и принуждены были уступить дорогу карьеристам, которые доводили принципы до крайности и шли на все, лишь бы доказать свою преданность. Семьи де Ланже и де Наварренов несли обязанности в высших придворных кругах, подчиняясь тирании этикета и подвергаясь упрёкам и насмешкам либералов, вызывая обвинения, будто утопают в богатстве и почестях, тогда как на самом деле их наследственные владения нисколько не увеличились, а суммы цивильного листа целиком поглощались издержками на представительство, необходимое всякому европейскому двору, даже республиканскому. В 1818 году герцог де Ланже командовал где-то дивизией, а герцогиня состояла при одной из принцесс крови, и, так как обязанности удерживали её в Париже, она жила отдельно от мужа, не возбуждая толков. Впрочем, у герцога, помимо военной службы, была ещё должность при дворе, и он приезжал время от времени, передавая командование бригадному генералу. Герцог и герцогиня фактически разошлись, хотя в свете это не было известно. Их супружество, заключённое по соглашению между семьями, постигла участь, довольно обычная при подобных фамильных договорах. Два самых противоположных характера, какие только можно себе представить, столкнулись и, втайне оскорблённые, разошлись навсегда. Затем каждый из них, соблюдая внешние приличия, стал жить по-своему, сообразно своему вкусу. Герцог, столь же методичный по натуре, как в своё время шевалье де Фолар, методически следовал своим прихотям и развлекался, предоставив жене полную свободу, так как знал её необычайную гордость, холодное сердце, слепое подчинение светским обычаям, юную прямоту и уверен был в безупречности её поведения при чопорном и благочестивом дворе, под наблюдением престарелой родни. По примеру знатных вельмож прошлого века он с пренебрежением покинул на произвол судьбы двадцатидвухлетнюю женщину, которая, отличаясь ужасным свойством никогда не прощать обиды, была втайне глубоко задета и уязвлена в своём женском тщеславии, самолюбии и, может быть, в своём достоинстве. Если оскорбление нанесено публично, женщина охотно забывает его, ей любо подавить вас великодушием, выказать женскую кротость и милосердие; но скрытой обиды женщина не простит никогда, ибо не выносит тайны ни в подлости, ни в добродетели, ни в любви.