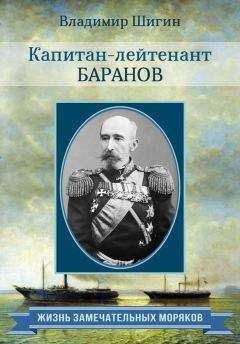— Думала…
Африха сделал движение в ее сторону, и Агнейка опрометью бросилась от него, потом опять подошла близко.
— Любка, хоть бы ты заступилась.
Африха покосился на Любу, закурил.
— Да, чуть не забыл. Вам с Агнейкой липинские девки записку со мной послали. Зовут сегодня на гулянку. Меня звали, да я сказал, если наши девки пойдут, так и я пойду. Сходим, что ли?
— Люб, пойдем, а? — подскочила Агнейка. — Давно уже в Липине я не бывала. Может, и Заболотские придут.
— Это точно, — поддержал ее Африха, — Заболотские со своей гармонией обещались.
— А что заболотские-то? — Люба обернулась к Африхе. — Я ни липинских, ни заболотских не видывала. А матюкальных частушек так и дома наслушаемся.
— Нате записку-то, — сказал Африха, — вы как хотите, а я пойду и один. Заходите, ежели надумаете.
И Африха пошел к деревне по-над канавой, тропинкой, обросшей подорожником. Люба развернула записку. На листке из
школьной в клеточку тетради было написано приглашение приходить к таким-то часам в Липино, к такому-то дому.
— Сходим, Агнеюшка?
Агнейка запрыгнула на телегу, отвязала вожжи, протараторила:
— Можно мне твои белые босоножки обуть?
2
Лесными теплыми покосами, через песчаные ручьи и брусничные горушки, то раздвигаясь, то вновь сливаясь, льнет к земле липинская дорога. Раза два за лето проедет кто-нибудь по ней на двухколесной телеге, спугнет тяжелых на подъем глухарей, и вновь явственно обозначатся две колеи и тропа посередине.
Что для молоденьких ног восемь веселых километров?
Босиком, с завернутыми в газету босоножками бежит впереди всех крепконогая Агнейка, шлепает комаров и нагибается иногда, чтобы обруснуть красную капельку земляники. На Агнейке черная новомодная юбка и красная кофточка, жакетку она погрузила на Африху. Африха где-то отстал, чтобы вырезать ивовый батожок, а может еще по какому делу.
За лесом уже садится солнце. Пахнуло сухим сеном, потом разогретым за день малинником, потом смолистой еловой поленницей.
Люба чуть подобрала свою тоже черную юбку, когда переходила усохший ручей. Комары так и налетели. Выдумщица Агнейка, передразнивая Африху, запела ребячьи частушки:
Запевай, товарищ, песенку
Веселым голоском,
Чтобы слышали сударушки
За темным за леском.
Голос у Агнейки приятный, особенно в лесу, когда песня отдается в сухом сосняке.
Мы с товарищем ходили
За реку по мостику,
Двух девчонок завлекали
Небольшого ростику.
Солнышко совсем спряталось, трава чуть отмякла, и комары налетели еще гуще.
— Ой, всю искусали, — допела частушку Агнейка и — снова ребячьим голосом:
Все курил, курил махорочку,
Тепере папирос,
У милахи носу не было,
Сево году прирос.
Позади, за поворотом откликнулся Африха:
— Девки! Тут напрямую можно, ближе намного!
Сшибая на ходу шляпы маслят, он догнал девушек, подал Агнейке жакетку.
Свернули на прямую тропу, которую знал Африха. Он шел, дымя папиросой, махая красивым ивовым батожком. Вокруг батожка вилась белая полоса вырезанной коры. Африху вроде и комары не кусали.
Тропа вывела на скошенное стожье. Посередине стожья стоял набитый сеном сеновал. За ручьем была поскотина, дальше белел туман большого липинского поля. Когда вышли к реке, Африха прислушался. Со стороны деревни никаких звуков не слышно было. Люба спустилась к воде, чтобы помыть ноги.
— Стыд-то какой. Всех раньше пришли, — проговорила она, но в деревне вдруг сначала тихо, потом громче взыграла гармонь.
Агнейка так вся и переменилась.
— Африш, ну-ка отвернись, да смотри не оглядывайся.
— Подумаешь, прынцесса, — Африка сел на луг, равнодушно отвернулся, закурил, пока Агнейка и Люба надевали чулки.
Туманом густо заволакивало реку, кричал дергач. Гармонь в Липине вдруг затихла. Но Люба знала, что затихла она не надолго, был как раз тот момент, когда в деревне из дома в дом перебегали девушки, а ребята всем гуртом сидели у кого-нибудь в избе. Пройдет минут пять, и мальчишки, играющие на улице «в муху», остановят игру и завистливо замрут, глядя на старших.
Улица словно расцвела, от посада до посада. В ночных сумерках зачернели ребячьи фигуры, и гармонист играл так хорошо, что у Любы вдруг дрогнуло что-то в груди. У Агнейки тоже. Из поля, с другого конца деревни, шли заболотские. Они сначала прошли по всей деревне. Липинские ребята почтительно уступили им улицу. Заболотские вернулись на средину, остановились у большого опушенного дома. Пока ребята здоровались, девушки охорашивались в сторонке под черемухами.
В большом ребячьем кругу сгрудилось много людей, и Люба с Агнейкой подошли туда. Гармонист был тот же самый, он торопливо загасил о каблук папиросу и надел на плечо ремень. Плясать пошли двое Заболотских ребят, а в это время в другом кругу плясали липинские девчата под игру своего гармониста: Африха подался к тому кругу, а Люба с Агнейкой остались. Люба закрыла глаза на секунду. Гармонь часто вздыхала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах, говор людей сливался в один постоянный звук, было тепло и тревожно, как в минувшем сне. Она открыла глаза и вдруг замерла от волнения: прямо на нее обернулось темнобровое лицо незнакомого невысокого парня. Он стоял рядом. Отвернулся почти сразу. Люба тоже отвернулась, но вновь тут же ощутила его взгляд, почувствовала, что быстро краснеет, и затеребила платок, не слыша Агнейкиных слов.
— Люба, пойдем плясать, слышь, — торопила ее Агнейка. — Что мы хуже других, пойдем, и все.
Агнейка протолкалась к самому гармонисту, он заиграл потише и на Агнейкин шепот ответил согласным кивком. Но Люба ничего этого не видела и не слышала. Она была словно и не она, как будто было две Любы: одна тут, а другая где-то. Она не смела взглянуть на соседа, а он все стоял рядом.
На круг вышла Агнейка. Все сразу обернулись на нее, статную, живую. Г армонист тоже сменил игру, Агнейка приостановилась и щемящим чистым голосом пропела частушку:
Ой ты, веночка усталая,
Играй тихонечко,
Голосок не позволяет
Песни петь нисколечко.
Круг сразу стал уже от того, что задние хотели посмотреть, все сгрудились теперь около этого круга. Агнейка приостановилась напротив Любы и снова пропела:
Девушки, зима не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не наша воля,
Не полюбишь кого хошь.
Плясала Агнейка всегда хорошо, особенно под настоящую игру. Люба чуть осмелела, хотя по-прежнему что-то сладкое и тревожное румянило щеки. Она подумала, что будь что будет, но Агнейку нельзя подводить, придется выходить на круг.
Запевай, подруга, песни,
Нам никто не запоет,
Невеселое-то времечко
Нескоро, да пройдет.
Выходи, подруга Люба,
На половочку ко мне,
Мы с тобою сиротиночки,
Гуляем-то одне, —
пропела Агнейка и встала на Любино место. Люба вышла на круг. Никогда еще не плясала она при таком народе, никогда ей так легко не дробилось и никогда так не навертывались в ее памяти самые хорошие частушки. Она плясала и видела, как смотрит на нее широкоплечий красивый парень, видела, как он закуривал с Африхой.
Люба прошла последний кружок и вышла с Агнейкой из толпы.
Они тихо пошли по улице. По-прежнему играли две гармошки. Вся деревня притихла, только у двух больших домов было людно, начиналась уже роса. Пропел чей-то петух, заскрипели чьи-то ворота. Люба не слышала, что говорила Агнейка, ей хотелось то ли поплакать, то ли запеть, то ли взлететь с пригорка над белым туманом.
Поет, и жалуется, и смеется веселая Заболотская гармонь, кричат бессонные мальчишки, одна за другой рождаются и умирают в хороводе частушки.
Ой, какая хорошая деревня Липино! А где же это таинственное Заболотье? Это где-то километров за восемь отсюда, еще дальше, и Люба никогда еще там не бывала.
Далеко за полночь гулянье понемногу пошло на убыль, поредел круг, затихла одна гармошка, и Африха подошел к Агнейке, предложил идти домой. Никому бы на свете не сказала Люба о том, как ей хотелось спросить у Афришки, с кем это он закуривал.
А Агнейка как назло всю дорогу говорила про заболотских.
3
Восход за восходом покатилось к осени Любино лето. Отцвела и увяла земляника, прошли сенокос и уборка, закраснела уже и рябина под окнами, а мир все так же, как и в ту липинскую ночь, был полон глубокой сладкой тоски.