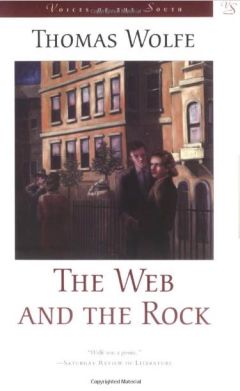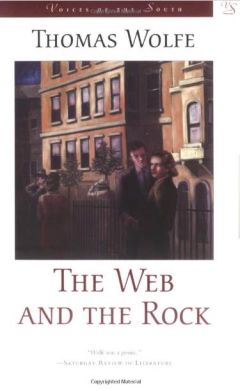вздохнул, словно очнувшись после транса или сильного наркотика, и неуверенно побрел прочь.
Так я увидел в городе смерть в третий раз.
Ярче всего запомнилось в этих трех смертях, по контрасту с четвертой, вот что: хотя первые три смерти были насильственны и обставлены всеми принадлежностями грозного, неожиданного, жуткого и отвратительного, чтобы у зрителя сжалось сердце, подкатило к горлу и по коже продрал мороз, — свидетели, горожане, оправившись от первого удивления, откликались на смерть немедленно, приемля ее свирепость, кровавую жестокость и ужас как одно из естественных следствий повседневной жизни. Но когда я в четвертый раз увидел смерть, горожане были ошеломлены, напуганы, растеряны, устрашены, как ни разу раньше; между тем смерть эта наступила так тихо, так легко и естественно, что казалось, даже ребенок мог смотреть на нее без страха и удивления.
Вот как это произошло.
В самом бурном центре городской жизни — у Бродвея, на Таймс-сквер, во втором часу ночи, бесцельно, потерянно, не зная, что с собой делать и куда себя девать, с привычным сумбуром и беспокойством в душе, я полез с запруженной улицы под землю в потоке атомов, рвущихся к своим ячейкам в той же исступленной спешке, какая выбросила их на улицу под вечер.
Мы вливались из ночного приволья в спертый, зловонный воздух тоннеля, мы тискались и кишели на серых цементных полах, мы остервенело лезли и продирались куда-то, словно бежали наперегонки со временем, словно за выгаданные две минуты нас ждала великая награда, словно мы изо всех сил торопились на какое-то блаженное свидание, к какому-то счастливому и радостному событию, к какой-то прекрасной цели, к богатству или к любви, зачарованные их сиянием.
Когда я сунул монету в щель и прошел через деревянный турникет, я увидел умирающего. Сценой был клочок пола, бетонная площадка, одним пандусом отделенная от платформы, и человек сидел на деревянной скамье, поставленной слева перед самым спуском к поездам.
Он тихо сидел на краю скамьи, чуть наклонившись вправо и положив локоть на ручку; его шляпа была слегка надвинута на лоб, лицо полуопущено. Я увидел только легкое, покойное, едва уловимое движение груди — трепет, слабый вздох, — и человек умер. Через секунду полицейский, который рассеянно поглядывал на него издали, подошел к скамье, наклонился, что-то сказал ему и потряс его за плечо. От этого локоть мертвеца соскользнул с края скамьи, сам он слегка осел и так и остался — рука на весу, потрепанная шляпа на лбу и немного набекрень, пальто распахнуто, короткая нога напряженно подогнута под лавку. Когда полицейский тряс его за плечо, лицо покойника уже серело. Тем временем несколько человек из толпы, безостановочно текущей через площадку, остановились, посмотрели с любопытством и тревогой, двинулись было дальше, а потом вернулись. Теперь они стояли вокруг и просто смотрели — молча, изредка обмениваясь смущенными, встревоженными взглядами.
И, однако, я думаю, мы все уже понимали, что человек мертв. Появился другой полицейский и тихо заговорил с первым; потом и он с интересом уставился на покойника, подошел, потряс его за плечо, как первый, и, бросив несколько слов товарищу, быстро удалился. Через минуту-другую он вернулся еще с одним. Все трое принялись что-то тихо обсуждать. Один нагнулся, обыскал карманы мертвеца, вытащил грязный конверт, бумажник и захватанную карточку. Покопавшись в бумажнике и переписав свои находки, они выпрямились и стали ждать.
Покойный был мужчиной потертого вида и неопределенного возраста — но скорее всего не моложе пятидесяти и едва ли старше пятидесяти пяти. И если бы кто искал типический портрет тротуарного нуля, обобщенное фото городского атома — лучшего образца он не нашел бы. Единственной приметой умершего было то, что его нельзя было отличить от миллиона других людей. Лицо у него было из тех, какие видишь на городских улицах по десять тысяч раз за день, а потом не можешь вспомнить.
Это лицо еще при жизни было желтым, дряблой, одутловатой, нездоровой выделки и было вместе с тем отчетливо и несомненно ирландским — лицо городского ирландца, с тонким, запавшим, слегка изогнутым ртом, в котором пряталось что-то плутовское, распущенное, вороватая, грязная усмешка. В нем было что-то угрюмое и вместе с тем приниженное, сварливое и угодливое — маленький человек: швейцар в театре или захудалом универмаге, привратник в дешевом многоквартирном доме, вахтер в учреждении, тесть полицейского, четвероюродный брат сержанта-регистратора в участке, дядя жены подручного у политикана, уволенный на пенсию курьер, хранитель конторы, открыватель дверей, спроваживатель посетителей у какого-нибудь ирландского деятеля, приученный исправно голосовать за «наших» в день выборов и ловить кусочки, которые бросают ему за то, что служил службу и держал язык за зубами, поднаторевший в раболепстве и пресмыкательстве перед теми, на ком — печать власти и положения, умеющий рычать, огрызаться и беспричинно дерзить тем, кто лишен власти и положения, не отмечен успехом и чином, способными возвысить ближнего в его глазах. Таков, без сомнения, был человек, сидевший мертвым на скамейке в метро.
И имя этому человеку — легион, число их — мириад. На его сером лице, в мертвом, запавшем рте гнездилась тень недавней жизни, эхо недавней речи, казалось, мы слышим его голос, внимаем знакомым интонациям, знаем каждый поступок и подробность его жизни так четко, как если бы он еще жил и рычал кому-нибудь: «Ничем не могу помочь, ничего не знаю, уважаемый. Я знаю только, что у меня есть приказ, а приказ у меня — никого не пускать, пока вы не докажете, что мистер Гроган вам назначил. А почем я знаю, кто вы такой? Почем я знаю, с каким вы делом? Меня это не касается… Нет, сэр. Если вы не можете доказать, что мистер Гроган вас пригласил, я вас не пущу… Может быть, и так… а может быть, и нет — обратно вам говорю… Да кто я, по-вашему? Гадалка или кто?.. Нет, уважаемый! Не пройдете вы! У меня приказ, и знать ничего не знаю».
И тот же голос через секунду будет скулить, протестующе лебезя и огорченно оправдываясь перед тем же самым или другим человеком: «Почему же вы сразу не сказали, что вы друг мистера Грогана?.. Почему же вы мне раньше не сказали, что вы его деверь?.. Я бы вас тут же пустил, если бы вы сказали. Сами понимаете, — тут его голос понизится до холуйской доверительности, — столько народу ходит тут каждый день, и все хотят прорваться к мистеру Грогану со всякой ерундой… Вот и приходится держать ухо востро… Но теперь, когда я