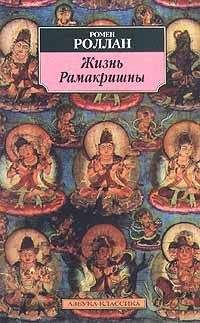И все-таки иногда Кристофа беспокоила неприязнь окружающих. В Париже ему слишком ясно давали почувствовать, что он принадлежит к враждебному народу; даже его любимец Жорж не отказал себе в удовольствии выразить свое отношение к Германии, что очень огорчило Кристофа. Кристоф решил удалиться; предлогом было желание повидаться с дочерью Грации; на некоторое время он уехал в Рим. Но и там обстановка была не спокойнее. Страшная чума национальной гордыни распространилась и здесь. Она преобразила характер итальянцев. Равнодушные и беспечные люди, которых Кристоф знал прежде, теперь мечтали только о военной славе, о сражениях, о победах, о римских орлах, парящих над песками Ливии; им казалось, что близятся времена императорского Рима. Забавнее всего, что самые противоположные партии — социалисты и клерикалы, точно так же как и монархисты, — поддались этому безумию, не допуская мысли, что они изменяют своему делу. Из этого явствует, как ничтожна роль политики и человеческого разума, когда грозные эпидемические страсти охватывают народы. Им, этим страстям, даже не приходится вытеснять личные пристрастия: они пользуются ими; все устремляется к единой цели. В эпохи активного действия всегда было так. В армии Генриха IV, как и в Совете при Людовике XIV, создавшем величие Франции, насчитывалось столько же разумных и убежденных людей, сколько и тщеславных, корыстных, пошлых эпикурейцев. Янсенисты и вольнодумцы, пуритане и прожигатели жизни, угождая своим инстинктам, все служили одному делу. В предстоящих войнах, несомненно, будут сражаться рядом интернационалисты и пацифисты, убежденные, как и их предки времен Конвента, что они воюют во имя блага народа и торжества мира!..
Насмешливо улыбаясь, Кристоф смотрел с террасы Яникульского холма на пестрый и в то же время гармоничный город — символ вселенной, над которой он господствовал: обгорелые развалины, фасады в стиле барокко, современные сооружения, кипарисы, сплетающиеся с розами, — все века, все стили, слившиеся в мощном и стройном единстве под светочем разума. Так разум должен излучать гармонию и свет на охваченную борьбой вселенную.
Кристоф недолго пробыл в Риме. Древний город производил на него слишком сильное впечатление. Он боялся его. Чтобы лучше проникнуться его гармонией, он должен был слушать ее издалека; он чувствовал, что если задержится, то этот город засосет его, как засасывал многих людей его расы. Время от времени он наезжал в Германию. Но в конечном счете и несмотря на неизбежность франко-германского конфликта, его всегда больше привлекал Париж. Ведь там живет Жорж, его приемный сын. Но не одно только чувство руководило Кристофом. Были и другие, не менее веские, соображения чисто интеллектуального порядка, влиявшие на него. Художнику, который привык жить полной духовной жизнью и горячо откликаться на все страсти, волнующие великую семью народов, трудно было снова привыкнуть к жизни в Германии. И там было немало художников. Но им не хватало воздуха. Они были оторваны от своего народа. Народ не интересовался ими; иные заботы, бытовые или социальные, поглощали Общественную мысль. Поэты, полные презрения и раздражения, замыкались в своем искусстве, которым пренебрегал народ; из гордости они порывали последние нити, связывавшие их с жизнью масс, и писали только для избранных. Они превратились в касту вырождающихся аристократов, талантливых, утонченных, но бесплодных, которая, в свою очередь, дробилась на соперничавшие между собою кружки пошлых жрецов искусства; они задыхались в своем тесном загоне и, не имея сил расширить его, с остервенением рыли в глубину, копая и перекапывая землю, пока она совсем не истощилась. Тогда они предались своим анархическим мечтам, даже не потрудившись согласовать их между собою. Каждый топтался на месте в тумане. У них не было общего светильника. Каждый должен был черпать свет в самом себе.
По другую сторону Рейна, у западных соседей, наоборот, над искусством то и дело проносились мощные ветры коллективных страстей и народных бурь. И, возвышаясь над равниной, точно Эйфелева башня над Парижем, светил вдали неугасимый светильник классической традиции, завоеванной веками трудов и славы, передаваемой из рук в руки, и эта традиция, не порабощая и не подавляя ум, указывала ему путь, проторенный веками, и объединяла весь народ под своим светочем. Многие немцы, словно заблудившиеся во мраке птицы, неслись к этому далекому маяку. Но разве во Франции подозревают о той глубокой симпатии, которая привлекает к ней столько благородных сердец соседнего народа, о множестве честных рук, протянутых к ней, которые не повинны в преступной политике?.. И вы, немецкие братья, вы тоже не видите и не слышите нас. Мы говорим вам: «Вот наши руки. Наперекор лжи и ненависти нас никогда не разлучат. Мы нуждаемся в вас, а вы нуждаетесь в нас, чтобы поддерживать величие нашей мысли и наших народов. Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».
Так думал Кристоф. Он сознавал, в какой мере оба народа дополняют друг друга, как их ум, их искусство, их деятельность станут немощны и хромы без взаимной поддержки. Он, уроженец Рейнской области, где сливаются в единый поток обе цивилизации, с детства ощущал необходимость такого союза. В течение всей жизни усилия его гения были бессознательно направлены на то, чтобы поддержать равновесие этих двух могучих крыльев. Чем богаче была его германская фантазия, тем сильнее нуждался он в ясной четкости латинского разума. Вот почему Франция была ему так дорога. Он вкусил здесь радость самопознания и научился обуздывать себя. Только здесь он был по-настоящему самим собой.
Он примирился с теми, кто пытался ему вредить. Он усваивал чуждую ему энергию, сочетая ее со своей. Мощный, здоровый дух поглощает все силы, даже враждебные ему, и претворяет их в свою плоть. А со временем наступает пора, когда человека больше всего привлекает то, что меньше всего похоже на него, ибо это дает ему более обильную пищу.
В сущности, Кристофу доставляли больше удовольствия произведения иных композиторов — его соперников, чем творчество его подражателей, а у него были и подражатели, которые, к великому ужасу Кристофа, выдавали себя за его учеников. Славные ребята, преисполненные почтения к нему, трудолюбивые, достойные, наделенные всеми добродетелями. Кристоф дал бы много, чтобы полюбить их музыку, но (таков уж его удел!) был на это не способен: он считал ее бездарной. В тысячу раз больше его прельщало творчество музыкантов, которые лично были ему неприятны и представляли в искусстве враждебные направления… Что ж из этого? Они, по крайней мере, живут! А жизнь сама по себе такая добродетель, что тот, кто лишен ее, если даже наделен всеми прочими добродетелями, никогда не будет настоящим человеком, потому что он не совсем человек. Кристоф шутя заявлял, что считает своими учениками только тех, кто борется против него. А когда какой-нибудь молодой композитор говорил ему о своем музыкальном призвании и, желая расположить в свою пользу, начинал превозносить его талант, Кристоф спрашивал:
— Значит, моя музыка удовлетворяет вас? Именно так вы намерены выражать вашу любовь или ненависть?
— Да, учитель.
— Тогда лучше молчите! Вам, видно, нечего сказать.
Это отвращение к покорным, к рожденным для повиновения, эта потребность воспринимать новые мысли влекли Кристофа главным образом в те круги, где придерживались взглядов, резко противоположных его взглядам. У него были друзья среди тех, для которых его искусство, его идеалистические взгляды, его моральные принципы представляли собой мертвую букву; они по-иному смотрели на жизнь, любовь, брак, семью, на все общественные взаимоотношения; впрочем, это были хорошие люди, но казалось, что они принадлежат к эпохе других моральных устоев: терзания и сомнения, на которые Кристоф убил часть жизни, были им непонятны. Тем лучше для них! Кристоф вовсе не собирался с ними объясняться. Он не требовал, чтобы окружающие разделяли его убеждения, тем самым подкрепляя их; в своей правоте он и без того был уверен. Он требовал, чтобы его познакомили с другими воззрениями, заставили полюбить людей другой породы. Любить и познавать все больше. Наблюдать и учиться видеть. Теперь он не только допускал чуждый ему образ мыслей, против которого когда-то боролся, но даже радовался этому, ибо, по его мнению, это умножало богатство вселенной. Кристоф любил Жоржа особенно за то, что тот воспринимал жизнь не так трагически, как он. Человечество было бы слишком бедным, слишком серым, если бы рядилось в однообразную форму строгой морали и героического долга, которыми вооружился Кристоф. Человечеству необходима радость, беззаботность, дерзкая непочтительность ко всякого рода кумирам, даже самым священным. Да здравствует «галльское остроумие, оживляющее землю»! Скептицизм и вера равно необходимы. Скептицизм, подтачивая вчерашнюю веру, освобождает место для завтрашней… Все проясняется для человека, по мере того как он удаляется от жизни: точно так же на прекрасной картине, если смотреть издалека, сливаются в чудесной гармонии различные краски, которые вблизи режут глаз.