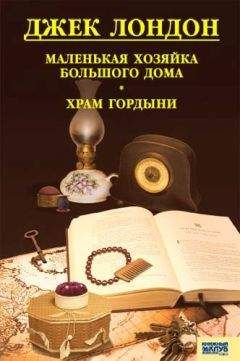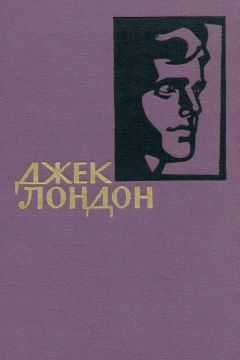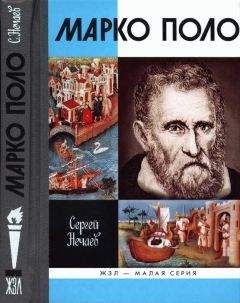Он был храбр и дважды дрался на дуэли — оба раза из политических соображений, — когда еще был зеленым юнцом, едва вступившим на политическую арену. В последнюю революцию, когда была свергнута туземная династия, он несомненно сыграл роль похвальную и мужественную, а в то время ему было не более шестнадцати лет. Он не был трусом, я это подчеркиваю для того, чтобы вы могли оценить дальнейшие события. Я видел его на ранчо Халеакала, когда он объезжал четырехлетнего жеребца, который два года водил за нос ковбоев Фон Темпского. Следует рассказать еще об одном случае. Дело происходило в Коне, или, вернее, над Коной, ибо местные жители не желают селиться ниже чем на высоте тысячи футов. Все мы сидели на террасе бунгало доктора Гудхью. Я разговаривал с Дотти Фэрчайлд, когда огромная сороконожка — потом мы ее смерили, и она оказалась в семь дюймов длиной — упала с балок прямо на ее прическу. Признаюсь, вид этой гадины парализовал меня. Я не в силах был пошевельнуться. Мой мозг отказывался работать. На расстоянии двух футов от меня омерзительное ядовитое насекомое извивалось в ее волосах. Каждую секунду оно могло упасть на ее обнаженные плечи — мы перед этим только что встали из-за обеденного стола.
— Что такое? — спросила Дотти, поднимая руку.
— Не троньте! — крикнул я. — Не троньте!
— Но в чем же дело? — настаивала она, испуганная моими остановившимися и трясущимися губами.
Мой крик привлек внимание Керсдейла. Он небрежно посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и не спеша подошел к нам.
— Пожалуйста, не шевелитесь, Дотти, — спокойно попросил он.
Он ни секунды не колебался, но не спешил и потому не промахнулся.
— Разрешите, — сказал он.
Одной рукой он взял ее шарф и плотно обернул ей плечи, чтобы сороконожка не могла упасть за корсаж. Другую руку — правую — он запустил в ее волосы, схватил отвратительную гадину ближе к голове и, крепко сжав указательным и большим пальцем, вытащил из волос. Это было самое страшное и героическое зрелище, какое только можно себе представить. У меня мурашки забегали по спине. Семидюймовая сороконожка, подергивая конечностями, корчилась и извивалась в его руке; тело ее обвилось вокруг его пальцев; насекомое, пытаясь освободиться, царапало ему кожу. Дважды оно его укусило — я это видел, — хотя он и уверял дам, что все обошлось. Он бросил гадину на усыпанную гравием дорожку и растоптал. А пять минут спустя я застал его в операционной, где доктор Гудхью надрезал ему раны и впрыскивал марганцевый калий. На следующее утро рука Керсдейла раздулась, как бочка, и опухоль держалась три недели.
Все это никакого отношения к моему рассказу не имеет, но я должен был упомянуть о случае с сороконожкой в доказательство того, что Джек Керсдейл отнюдь не был трусом. В тот раз он проявил редкую отвагу, какую мне еще не приходилось видеть. Он глазом не моргнул и все время улыбался. Он запустил большой и указательный палец в волосы Дотти Фэрчайлд так весело, словно перед ним стояла коробка с соленым миндалем. Однако этого самого человека мне суждено было увидеть во власти страха в тысячу раз отвратительнее того, какой испытал я, когда мерзкая гадина извивалась в волосах Дотти Фэрчайлд, над ее глазами и открытым корсажем.
Я интересовался проказой, и по этому вопросу, как и по всем вопросам, касавшимся островов, Керсдейл обладал энциклопедическими познаниями. По правде сказать, проказа была одним из его коньков. Он был пламенным защитником колонии на Молокаи, куда отправляли с островов всех прокаженных. Среди туземного населения ходили слухи, раздуваемые демагогами, о жестокостях, творимых на Молокаи, где мужчины и женщины, оторванные от друзей и семьи, обречены были до самой смерти жить в заточении. Ни смягчения, ни отсрочки в исполнении приговора быть не могло. «Оставь надежду!»[5] было написано на воротах Молокаи.
— Уверяю вас, они там счастливы, — настаивал Керсдейл. — Им куда лучше, чем их друзьям и родственникам, людям совершенно здоровым. Все эти толки об ужасах на Молокаи — ерунда. Я могу показать вам больницы или трущобы в любом из больших городов, где вы увидите кое-что пострашнее. Живые мертвецы! Существа, некогда бывшие людьми! Вздор! Следовало бы вам посмотреть, какие скачки устраивают эти живые мертвецы четвертого июля. У некоторых есть лодки. Один обзавелся даже моторной. Делать им нечего, могут все время веселиться. Пища, кров, одежда, врачебная помощь — все это им предоставлено. Они — подопечные всей страны. Климат там лучше, чем в Гонолулу, местоположение прекрасное. Я лично ничего не имел бы против того, чтобы провести там остаток своих дней. Славное местечко!
Так рассуждал Керсдейл о счастливых прокаженных. Он не боялся проказы, но добавлял, что у него, как и у кого бы то ни было из белых, для заражения не было и одного шанса на миллион. Впрочем, впоследствии он признался, что один из его школьных товарищей, Альфред Стартер, заразился, уехал на Молокаи и там умер.
— Вы знаете, в прошлом, — объяснял Керсдейл, — неоспоримые признаки проказы не были известны. Достаточно было какого-нибудь необычного или ненормального явления, чтобы отправить парня на Молокаи. В результате десятки людей, сосланных туда, были такие же прокаженные, как вы или я. Но теперь подобные ошибки невозможны. Исследования Врачебного управления непогрешимы. Любопытно, когда врачи, научившись распознавать эту болезнь, отправились на Молокаи и произвели исследование, среди прокаженных оказалось немало здоровых людей. Их немедленно удалили с Молокаи. Рады ли они были уехать? Они выли громче, чем в Гонолулу, когда их отправляли на Молокаи. Иные отказались ехать, и пришлось увезти их насильно. Один был даже женат на прокаженной в последней стадии болезни и впоследствии писал патетические письма во Врачебное управление, протестуя против своего изгнания на том основании, что никто не сможет так ухаживать за его бедной старой женой, как это делал он.
— Что же это за непогрешимый способ распознавать болезнь? — осведомился я.
— Бактериологическое исследование. Тут ошибка исключается. Доктор Герви — наш эксперт, как вам известно, первый применил этот метод. Он — чародей. О проказе он знает больше, чем кто бы то ни было на свете, а если способы лечения существуют, вы увидите, откроет их он. Удалось выделить bacillus leprae[6] и изучить ее. Теперь ее узнают сразу. Нужно только срезать у подозреваемого кусочек кожи и подвергнуть его бактериологическому исследованию. Человек без всяких наружных признаков проказы может быть битком набит бациллами.
— Значит, вы или я, сами того не ведая, быть может, переполнены ими, — заметил я.
Керсдейл пожал плечами и рассмеялся.
— Как знать? Инкубационный[7] период длится семь лет. Если же вы сомневаетесь, ступайте к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом вам сообщит, больны вы или нет.
Позже он меня познакомил с доктором Герви, который вручил мне отчеты Врачебного управления и научные доклады о проказе и повез меня в Калихи, приемный пункт на Гонолулу, где осматривали подозрительных больных и содержали прокаженных до отправки на Молокаи. Такие отправки происходили раз в месяц, когда прокаженных, навеки распрощавшихся с друзьями, сажали на борт маленького парохода «Носау» и отвозили в колонию.
Однажды в клуб, где я писал письма, заглянул Джек Керсдейл.
— Вас-то мне и нужно, — приветствовал он меня. — Я покажу вам самую печальную сторону трагедии — рыдания прокаженных перед отплытием на Молокаи. Через несколько минут «Носау» примет их на борт. Но предупреждаю — держите себя в руках. Как ни безутешно их горе, но через год они бы подняли и не такой вой, если бы Врачебное управление попыталось увезти их с Молокаи. Мы еще успеем пропустить виски с содовой. Меня ждет экипаж. И пяти минут не пройдет, как мы спустимся к пристани.
И мы отправились на пристань. Около сорока несчастных сидели на корточках среди своих циновок, одеял и всевозможных пожитков. «Носау» подходил к плашкоуту, отделявшему его от пристани. Мистер Маквей, старший надзиратель колонии, следил за посадкой. Меня представили ему, а также доктору Джорджесу — одному из врачей Врачебного управления, с которым я уже встречался в Калихи. Прокаженные были убиты горем. Почти у всех лица были отвратительные — слишком страшные, чтобы я мог их описать. Но кое-где попадались лица довольно привлекательные, без следов проказы. Я обратил внимание на маленькую белую девочку лет двенадцати, с голубыми глазами и золотистыми волосами; одна ее щека была обезображена зловещей опухолью. На мое замечание, какой одинокой она себя почувствует среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:
— Сомневаюсь. Это — счастливый день в ее жизни. Она из Кауаи. Отец ее — скотина. Теперь, заболев проказой, она едет к матери в колонию. Мать попала туда три года назад — очень тяжелый случай.