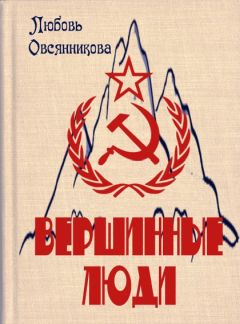Я наблюдала за ним и не могла поверить, что это тот самый человек, который так долго оставался для меня загадкой — не навязчивой, но интригующей, — который казался просто надменным хамом и при встречах оставлял во мне огорчительный осадок. Впрочем, не знаю, каким он казался раньше, я забыла об этом. Знаю и помню, что тогда поняла одно: он положил начало чему-то, без чего я жить не смогу и что должно питаться миром его героев, его энергетикой, голосом и глазами. И боязнь неосторожного слова, способного нарушить едва установившееся равновесие, сторожила мои уста. Я полюбила его как можно полюбить солнце, море, лето, цветущий луг, молодость и Родину, ибо всем этим были проникнуты его произведения.
— Ну, ва-аще! — весело завершил он паузу и тряхнул головой.
Потом всегда в такой форме он выражал удивление, удовлетворение или восхищение.
И вдруг, отбросив маску человека, превратился в того, кем уже стал для меня — высшим существом. Врачуя меня, отравившуюся восторгом, сказал:
— Сделаем так. Завтра я принесу вам еще пару своих произведений, — и, перебивая жестом мои попытки возразить, продолжал: — я не задержусь надолго, просто занесу, отдам и уйду. Вы прочтете их, и вам станет легче, — он замялся, уточняя фразу: — Нет, вам станет проще со мной общаться. Да, проще. Давайте?
— Что же изменится? Вы принесете мне слабые вещи, и я разочаруюсь?
— Отнюдь! У меня нет слабых вещей. Я очень талантливый писатель. Я говорил вам, а вы не поверили. Теперь видите, как тяжело переносить прикосновение к совершенству, — он говорил в шутливом тоне, но в нем звенела и мелкая месть за мои сомнения в нем; и насмешка над моей впечатлительностью; и досада, что я не сама открыла его, что позволила себе не знать его (возмутительно!). Он потешался надо мной за все разом. — Просто, вы начитаетесь меня, надышитесь мной и привыкнете ко мне. Запомните, когда-нибудь вы будете гордиться тем, что были со мной знакомы.
— Хорошо, заносите, — согласилась я, не веря, что состоялся разговор, от которого я пыталась уклониться. — Я согласна привыкнуть к вам и потом этим гордиться.
Он незаметно перевел беседу на меня, словно не мое открытие его как писателя стало основным событием, словно главным было рождение в моем лице его нового читателя, не пожелавшего сейчас обсудить прочитанное. Постепенно все трепыхавшееся и вибрировавшее во мне стало успокаиваться. Я больше не испытывала неловкости за очарование его повестью, она была так же естественна, как и простительна, ибо не каждый день случаются встречи с неординарными людьми. Тем не менее я не хотела выглядеть смешной.
— Я выгляжу наивной, да?
Он рассмеялся. Смех его не был раскатистым, заливистым, он был глухим рокочущим и перекатистым. Такой звук издает крупная галька, увлекаемая отходящей от берега волной. При этом он снисходительно посматривал на меня. Затем, насмеявшись, резко оборвал себя и со значением произнес:
— Разве заурядный человек в состоянии оценить талант? А вы оценили, — и далее назидательно, будто зомбируя меня: — Более того, вы говорите об этом откровенно и просто, без выкрутасов. Это о многом свидетельствует. И не задавайте больше глупых вопросов. Старайтесь, когда в вас говорит женское начало, помалкивать.
— Причем тут женское начало? — возмутилась я. — Сами-то вы не очень справляетесь со своими началами. Советничек...
— При том, что вы кокетничали, а вам это не надо, — огрызнулся он.
Я обиженно замолчала. Разве я виновата, что родилась женщиной и иногда это проскальзывает во мне?
— Мне положено кокетничать, находясь хорошем настроении, — брякнула я в защиту. — Это касается не вас, а меня самой.
Он снова улыбнулся, хмыкнул и двинулся к двери. Словно говоря сам с собой, на выходе из кабинета продолжал удивляться:
— Надо же, с такими мозгами она беспокоится, что выглядит наивной.
Так и ушел, не попрощавшись, всем своим видом не принимая во мне женщину, собственно то, что задеть ему и не удалось. Опять схитрил.
Больше у нас не возобновлялись попытки читать или обсуждать его произведения. Каким бы талантливым читателем я ни оказалась, ему это было не нужно, и я не позволяла себе вторгаться в его святая святых.
Он не любил говорить людям — просто не любил произносить, выговаривать, декламировать — резкие, урезонивающие, одергивающие или пресекающие слова. В полемике бывал краток. Не соглашаясь с доводами собеседника, мог произнести два-три контраргумента. Но если это не убеждало, умел закончить разговор на нейтральной ноте. Разъяснения, если они требовались, давал короткими лаконичными фразами. На непонятливых время не тратил и не добивался непременного прояснения их сознания. Совершенно не заботился о том, что о нем думают и какое впечатление он производит. Он умел держать разговор в таком напряжении, что то, чего он не хотел услышать, собеседник не мог произнести.
Иногда в нем все же возникало негодование, возмущение, надобность выплеснуть свою реакцию. Тогда он умолкал, подыскивая самое безобидное слово, при этом крылья его мраморно-неподвижного носа оживали и начинали слегка вибрировать. Над верхней губой прорезалась горизонтальная складка, губа заворачивалась к круглому и аккуратному кончику носа, который закруглялся еще больше, и почему-то именно там прочитывались довлеющие над ним эмоции. Те, кто не знал Ногачева, обречен был в эти мгновения услышать неприятные для себя слова, произнесенные после паузы с легким вскидыванием головы и бездонной холодностью в глазах.
Я старалась предупредить возникновение таких ситуаций, зная, что ему потом будет неприятней, чем мне, хоть он и постарается это скрыть.
Смею думать, что я неплохой рассказчик, потому что с моих слов, еще не видя и не зная Ногачева, мой муж сделал правильное допущение — этот человек является толковым "технарем". Действительно, как я узнала позже, по образованию он был инженером-электронщиком и в профессиональной карьере дорос до должности начальника отдела одного из закрытых научно-исследовательских институтов, занимающихся ракетной техникой.
Так я познакомилась с человеком, который стал моим самым значимым эстетическим увлечением. Мой мир раздвоился: в одном я жила и работала, а в другом — находилась душой, изучая явление природы под именем Ногачев. С этой поры для меня началось новое летосчисление: это было до Ногачева, а это — после.
А с Василием Васильевичем Ногачевым мы с тех пор сотрудничали. Мне эта деятельность не была слишком уж выгодной, а ему кое-что приносила, и я ей всецело содействовала с пониманием и душевным расположением. Однако прошло и это.
Иногда хочется воскликнуть: «Эхо былого, не покидай меня. Без твоего обманного звука — умру. Еще не все весны, где ты звучишь, я воспела и не все осени оплакала. Еще хватит тепла моего растопить снежные заносы и льды зимы. И лето, лето свое еще могу дарить твоим голубым эфирам.
Звучи во мне! Звучи чисто и правдиво, как звучал настоящий исток твой, сладкопевный голос молодости, когда-то — давным-давно — шедшей рядом со мной. Я ловлю твои переливы, тянусь к ним рукою и в иллюзорной надежде своей пытаюсь ощутить материальность прошлого. Закрываю глаза, и мне мнится, что цель близка, что я осязаю его, рождающего счастье.
Не уходи, не отдаляйся, не растворяйся, эхо былого! Не замирай погибельной тишиной. Эхо любимого времени — ты серебристая нить моей жизни. Еще и еще мне хочется дожить до конца твоих отголосков».
Или это не эхо?
Может, это память трепещет и содрогается волнами дорогих голосов, узнаваемых в годах и расстояниях? Не надо симфоний и песен! Я откажусь от всех мелодий, от всех напевов чарующей гармонии ради того, чтобы снова услышать эхо былого, которого мне всегда мало.
Но что я могу?
***
Я могу, например, сказать, что не размышляла специально о Ногачеве. Мне просто хорошо было, что он есть, что подвигнул меня вспомнить о своей мечте, и я с удовольствием изучала его как объективное явление. Каким же мне запомнился этот незаурядный знакомец?
Постараюсь быть беспристрастной. А чтобы образ его оставался живым и осязаемым, начну с того, что в нем особенно выделялось, было превалирующим и сильным.
Как ни странно говорить такое об умном человеке, но по первым впечатлениям запомнился он мне высокомерным, причем в значительной степени — до банальной спесивости, чтобы не сказать хамской чванливости. Кажется, ему в себе нравилось все: и неидеальная внешность, другая бы сказала — внешность ломового извозчика; и какая-то молодцеватость, или даже гарцеватость, движений; и его шутки — в большинстве своем пошлые, и книги.
Ходил он легко и стремительно, но при этом подчеркнуто играл мускулами и вскидывал голову, стараясь не смотреть в глаза встречным — его взгляд скользил над головами людей. Такой взгляд я впервые заметила у Михаила Кузнецова, народного артиста РСФСР, когда он гулял по центральному проспекту, находясь на гастролях в Днепропетровске. Понятно, что у него были на то причины — приехав в провинцию, он старался избегать толпы поклонников, расспросов и раздачи автографов. Потом мне привелось наблюдать, как шествует по улице Горького (ныне Тверской) Юлия Борисова — и снова тот же взгляд небожителя, устремленный к звездам.