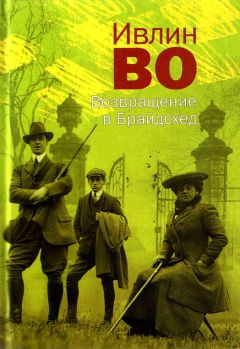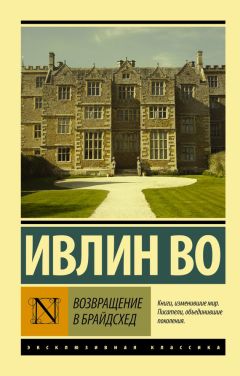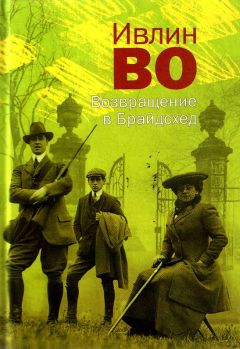— Что произошло?
— Хотите знать? Мы вошли к нему гуськом, Кара читала папе газету. Брайди сказал: „Я привел к тебе отца Маккея“, а папа сказал: „Отец Маккей, боюсь, вас привели сюда по недоразумению. Я не при смерти, и я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом вашей церкви. Брайдсхед, покажи отцу Маккею, как отсюда выйти“. И тогда мы трое сделали поворот кругом и вышли, и я слышала, как Кара возобновила чтение газеты, вот, дорогой Чарльз, и все.
Я принес это известие Джулии, которая еще лежала в постели; здесь же стоял поднос из-под завтрака и валялись газеты и конверты.
— Камлание не состоялось, — сказал я. — Шаман отбыл восвояси.
— Бедный папа.
— Брайди остался с носом.
Я был очень доволен. Я оказался прав, а все остальные неправы; истина восторжествовала; опасность, которая нависла над Джулией и мною с того самого вечера у фонтана, теперь была устранена и, может быть, развеяна навеки; и вдобавок ко всему — теперь я могу признаться — я тайно праздновал еще одну невысказанную, невыразимую, нечестную маленькую победу. Можно было предположить, что события этого утра воздвигли между лордом Брайдсхедом и его законным наследием новые преграды.
И в этом я не ошибся; было послано за представителем лондонской адвокатской конторы; дня через два он действительно явился, и в доме стало известно, что лорд Марчмейн сделал новое завещание. Но я глубоко заблуждался, когда думал, что религиозным разногласиям положен конец; накануне отъезда Брайдсхеда после ужина они вспыхнули с новой силой.
— …папины точные слова были: „Я не при смерти, я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом церкви“.
— Не „церкви“, а „вашей церкви“.
— Не вижу разницы.
— Разница огромная.
— Брайди, ведь ясно, что он хотел сказать.
— По-моему, он хотел сказать то, что сказал. Что он не имеет обыкновения причащаться регулярно и, поскольку в данный момент еще не умирает, не видит причины изменять своим привычкам — пока что.
— Это крючкотворство.
— Почему люди считают стремление к точности крючкотворством? Он ясно выразился, что не согласен видеть священника именно в тот день, но согласится, когда будет при смерти.
— Пусть бы мне кто-нибудь объяснил, — сказал я, — в чем, собственно, смысл этого, таинства? Значит ли оно, что, если человек умрет в одиночестве, он попадет в ад, а если священник помажет его маслом…
— О, дело не в масле, — возразила Корделия. — Масло — для исцеления.
— Еще того страннее — ну, не важно, что бы ни делал священник, для того чтобы он попал на небо. В это вы верите?
Здесь вмешалась Кара:
— Помнится, мне говорила няня или кто-то говорил, во всяком случае, что, если священник войдет, пока тело еще не остыло, тогда все в порядке. Это так, ведь правда?
Ее слова встретили дружный отпор.
— Нет, Кара, неправда.
— Разумеется, нет.
— Кара, вы что-то спутали.
— А я помню, когда умирал Альфонс де Грене, мадам де Грене спрятала священника прямо за дверью — Альфонс не переносил их вида, — а потом впустила его, когда тело еще не остыло, она сама мне рассказывала, и по нем отслужили полную панихиду, я на ней была.
— Панихида вовсе не означает, что вы обязательно попадете в рай.
— Мадам де Грене считала, что означает.
— Она ошибалась.
— Знает ли кто-нибудь из вас, католиков, зачем нужен священник? — спросил я. — Хотите ли вы просто, чтобы ваш отец мог быть похоронен по христианскому обряду? Или вы хотите, чтобы он не попал в ад? Я прошу объяснения.
Брайдсхед стал давать мне подробные объяснения, но, когда он кончил, Кара нарушила единство католического фронта, простодушно заметив:
— Вот, а я и не знала ничего этого.
— Давайте посмотрим, — сказал я. — Человек должен проявить свободную волю, должен раскаяться и желать примирения с богом. Так? Но только бог может знать, что у него в душе, священник этого знать не может; если же священника при этом нет и он примиряется с богом в душе своей, это так же ценно, как и в присутствии священника. Вполне возможно даже, что воля действует, когда человек уже совсем слаб, не в силах внешне это ничем выразить. Так? Он может лежать неподвижно, как мертвый, и при этом активно желать примирения с богом, и бог это будет знать. Так?
— Приблизительно так, — ответил Брайдсхед.
— Тогда для чего же нужен священник?
Последовала пауза, во время которой Джулия тяжело вздохнула, а Брайдсхед набрал в грудь воздуха, словно готов был снова приступить к расчленению посылок. И пока остальные молчали, Кара произнесла:
— Я только знаю, что сама непременно позабочусь о том, чтобы у меня был священник.
— Благослови вас бог, Кара, — сказала Корделия. — Вот, по-моему, самый лучший ответ.
И на этом мы прекратили спор, хотя каждый про себя считал его исход неудовлетворительным.
Позже, вечером, Джулия мне сказала;
— Ты не мог бы не заводить богословских споров?
— Не я их завел.
— Ведь ты никого ни в чем не убедил и даже не убедил самого себя.
— Мне просто хочется знать, во что эти люди верят. Ведь они говорят, что у них все на логической основе.
— Если бы ты дал Брайди договорить, у него бы и получилось все очень логично.
— Вас там было четверо, — настаивал— я, — Кара понятия ни о чем этом не имела и то ли верит, то ли нет, неизвестно; ты знаешь кое-что и не веришь ни одному слову; Корделия знает не больше твоего и страстно верит; один только бедняга Брайди знает и верит по-настоящему, и, однако, когда дошло до объяснения, он оказался, на мой взгляд, совершенно беспомощен. А еще говорят: „По крайней мере католики знают, во что верят“. Сегодня мы видели как на ладони…
— Ох, Чарльз, к чему эти разглагольствования? Я могу подумать, что ты и сам начал испытывать сомнения.
Проходили недели, а лорд Марчмейн все еще был жив. В июне вступил в силу мой развод, и моя бывшая жена заключила второй брак. Джулия должна была стать свободна в сентябре. Чем ближе была наша свадьба, тем тоскливее, как я заметил, говорила о ней Джулия. Война тоже приближалась — это не вызывало у нас сомнений, — но грустное, отрешенное, даже порой отчаянное нетерпение Джулии шло не от той неопределенности, что была вне ее, а время от времени оно вдруг сгущалось в мгновенные приступы озлобления, и она бросалась на сдерживающую преграду своей любви ко мне, точно зверь на железные прутья клетки.
Меня вызвали в военное министерство, опросили и внесли в список на случай национальной опасности; Корделию тоже внесли в какой-то список; списки снова вошли в нашу жизнь, как когда-то в школьные годы. Все лихорадочно подготавливалось к ожидающейся национальной опасности. В этом темном министерстве слово „война“ не произносилось, на нем лежало табу; нас должны были призвать, если возникнет „национальная опасность“ — не военная смута, которая есть акт человеческой воли, не такие ясные и простые вещи, как гнев и расплата, нет, национальная опасность — нечто являющееся из глубин вод, чудовище с безглазым ликом и хлещущим хвостом, которое всплывает со дна морского.
Лорд Марчмейн выказывал мало интереса к тому, что происходило вне стен его комнаты; каждый день мы приносили ему газеты и пытались читать их, но он поворачивал голову, разглядывая окружавшие его замысловатые узоры. „Читать, дальше?“ — „Да, пожалуйста, если вас это не утомляет“. Но он не слушал; изредка, при упоминании знакомого имени, он бормотал: „Ирвин… Знал его. Посредственность“; изредка делал какие-нибудь не идущие к делу замечания: „…чехи — превосходные кучера, и только“; но мысли его были далеки от дел земных, они были здесь, в этой комнате, обращены на него самого; у него не было сил на другие войны, кроме его собственной войны, которую он вел в одиночку за то, чтобы не умереть.
Я сказал доктору, посещавшему нас теперь каждый день:
— У него великая воля к жизни, правда?
— Вы это так определяете? Я бы сказал — великий страх смерти.
— А разве есть разница?
— О да, конечно. Ведь страх не придает ему сил. Он его истощает.
Кроме смерти, быть может, из-за сходства с нею он больше всего боялся темноты и одиночества. Ему нравилось, когда мы все собирались у него в комнате и всю ночь в ней среди золоченых фигурок горел свет; ему не нужно было от нас речей, он разговаривал сам, но так тихо, что мы часто не могли расслышать его слов; он говорил сам, потому, мне кажется, что собственный голос был для него единственным надежным доказательством его продолжающейся жизни; речи его предназначались не для нас, не для чьих бы то ни было ушей, а только для него самого.
— Сегодня лучше. Сегодня лучше. Уже различаю там в углу мандарина с золотым колокольчиком и под ним кривое деревце в цвету, а вчера все расплывалось и пагоду я принимал за второго человека. Скоро увижу мостик, и трех аистов, и то место, где тропинка уходит за холм.