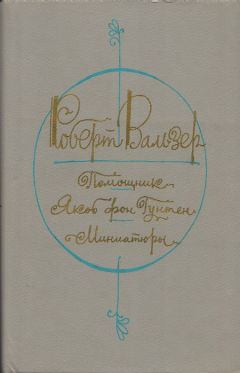Фройляйн Беньямента теперь каждый день перебрасывается со мной несколькими словами, то на кухне, то в опустелом, тихом классе. Краус держится так, будто собирается еще десять лет пробыть в нашем пансионе. Он по-прежнему учит уроки монотонно и без всякого неудовольствия на лице, то есть как раз с неудовольствием на лице, но оно у него было всегда, постоянно. Этот человек не способен на спешку или нетерпение. «Подождем» — это слово будто написано на его спокойном величавом лбу. Да, фройляйн тоже однажды сказала, что Краус обладает величием, и это правда, в неприметности его существа и существования скрыто что-то величаво-властное. К моей фройляйн я осмелился вчера обратиться со следующей речью: «Если в моем сердце хотя бы раз, хотя бы один- единственный, ничтожно малый раз шевельнулось по отношению к вам какое-либо другое чувство, кроме чувства бесконечной преданности и почтения, то я бы возненавидел себя, уничтожил, повесил, отравил страшным ядом, перерезал горло себе какой-нибудь бритвой. Но это невозможно, фройляйн. Я не мог ничем вас обидеть. Одни глаза ваши — они светили мне как высшее указание, как непреложный и прекрасный завет. Нет, нет, я говорю правду. А когда вы появлялись в дверях! Здесь мне не надо было ни неба, ни луны, ни солнца, ни звезд. Вы, вы были для меня всем. Я не лгу, фройляйн, и смею надеяться, что вы чувствуете, насколько слова мои далеки от какой бы то ни было лести. Мне противно думать о будущем преуспеянии, я боюсь жизни. Да, это так. И все же мне, как и Краусу, придется вскоре вступить в эту ненавистную жизнь. Вы были для меня воплощением здоровья. Читал ли я книгу, я в ней видел только вас, вы были для меня книгой. Да, да, так оно и есть. Я часто вел себя дурно. Не раз вы должны были удерживать меня от провалов в высокомерие, которое тщилось погрести меня под обломками вздорных фантазий. Но вы всегда побеждали, всегда. Как я вслушивался в то, что говорила нам фройляйн Беньямента! Вы улыбаетесь? Да, ваша улыбка всегда напоминала мне о добре, храбрости, истине. Как вы были добры ко мне. Слишком, слишком добры ко мне, упрямцу. А стоило вам взглянуть на меня, как все мои пороки и прегрешения толпой устремлялись к ногам вашим, чтобы молить о прощении. Нет, нет, я не хочу уходить отсюда в мир. Презираю заранее всякое будущее. Как я радовался, когда вы входили в класс, и как дурачился потом в своих мыслях. Да, я должен в этом признаться, в мыслях я частенько пытался найти в вас хоть какой-нибудь изъян, который мог бы умалить ваше достоинство, но как я ни изощрялся, я не мог найти ни единого слова, которое могло бы бросить тень, умалить в моих глазах то, чему я поклонялся. А наказанием мне всякий раз было раскаяние и беспокойство. Да, фройляйн, я всегда должен был почитать вас, мне нельзя было иначе. Вы не сердитесь, что я так говорю? Я-то, я рад, что говорю вам все это». В ее глазах сверкнула улыбка. Чуть насмешливая, но и довольная. Было заметно, что мысли ее витают далеко. Она была словно в забытьи, и только поэтому я осмелился так говорить с ней. Впредь остерегусь это делать.
Дело это, конечно, не мое, однако нельзя не заметить, что новых учеников в пансионе давно уже нет. Может быть, престиж господина Беньяменты как воспитателя пошатнулся или вовсе упал? Было бы жаль. Но, возможно, все это плод моего воображения. Нервы, если этим словом можно назвать известное напряжение и в то же время усталую дряблость наблюдательных способностей. В атмосфере хрупкости, которая царит здесь, чувствуешь себя, как в воздухе, а не на земле. И потом, постоянное бдение сознания и сознательности тоже может иметь последствия. Все возможно. Когда постоянно чего-то ждешь, то ослабеваешь. Тем более когда запрещаешь себе ждать и прислушиваться, потому что это возбраняется. Это тоже требует сил. Часто фройляйн подолгу стоит у окна и смотрит куда-то вдаль, как будто ее уже нет с нами. Да, вот это и есть то нездоровое и неестественное, что плетет здесь свою паутину: мы все живем здесь так, будто находимся где-то в другом месте.
Дышим, едим, спим, бодрствуем, учим и учимся — как во сне. Словно крылья наши скованы неумолимой и властной силой. Может, мы прислушиваемся к тому, что будет потом? После нас? Тоже возможно. А что будет, если все мы, теперешние воспитанники, уйдем, а других учеников не появится? Что тогда? Будут ли Беньямента влачить жалкое, одинокое существование? Стоит мне только представить себе это, как я чувствую себя больным. Нет, никогда, ни за что. Этого нельзя допустить. И все же против этого ничего нельзя поделать. Ничего нельзя поделать?
Действовать — значит не раздумывать, а быстро и спокойно войти в суть того, что должно быть исполнено. Омочить себя в водах усердия, закалиться под ударами необходимости. Терпеть не могу так умничать. И собирался-то я пораскинуть мозгами совсем о другом. Ах да, о господине Беньяменте. Снова был у него в канцелярии. Все пристаю к нему по поводу места. И на сей раз спросил, как обстоит с этим дело, могу ли надеяться и т. д. Он чуть не взбесился. О, он и теперь еще способен на бешенство, и я немало рискую, когда дразню его. Спросил я громко, нагло, дерзко. Директор даже смутился и стал почесывать за ухом. Уши у него не то чтобы большие, просто он сам весь очень большой, поэтому и уши кажутся большими, хотя они просто соразмерные. Наконец он подошел ко мне, улыбнулся, как ни странно, добродушной улыбкой и сказал: «В люди захотел, Якоб? Я же советую тебе пока остаться. Ведь здесь для тебя и для таких, как ты, очень хорошо. Или нет? Подожди еще немного. Я бы даже советовал тебе побыть немного бездумным и рассеянным бездельником. Тогда бы ты увидел, что то, что называют пороками, имеет большое значение в жизни людей, что пороки важны, почти, можно сказать, необходимы. Если б не было в мире пороков и грехов, мир был бы холоден, скучен, беден. Не было бы половины мира, и может быть, более прекрасной половины. Так что стань ленивцем на время. Нет, нет, пойми меня правильно, оставайся таким, как ты есть, каким ты стал здесь, но, пожалуйста, прикинься на время эдаким разгильдяем. Хочешь? Согласен? Я был бы рад увидеть тебя шалопаем. Мечтателем каким-нибудь с отрешенным видом и отсутствующим взглядом. Идет? А то в тебе слишком много воли, слишком много характера. И гордости, Якоб! О чем ты, собственно, думаешь? Может, рассчитываешь многого добиться, достичь? Питаешь какие-нибудь серьезные намерения? Иной раз — к сожалению — ты производишь на меня такое впечатление. Или, напротив, ты хочешь остаться — из упрямства — человеком маленьким, незаметным? И этого от тебя можно ожидать. Есть в тебе что-то торжественное, бурное, величавое, как в триумфаторе. Но все это не важно, тебе надо остаться, Якоб. Я не дам тебе места, еще долго не дам. Ты мне, видишь ли, еще нужен. Едва появился, как уже бежать? Так нельзя. Лучше поскучай еще здесь, в пансионе, сколько можешь. О, маленький завоеватель, в мире, куда ты так рвешься, тебя ожидает целое море скуки, одиночества, безделья. Оставайся. Потомись еще немножко. Ты ведь не знаешь еще, сколько величия в тоске, в ожидании. Так что подожди. Пусть распирает тебя изнутри. Но не слишком. Меня, знаешь ли, ранил бы твой уход, ранил бы смертельно, просто убил. Можешь теперь посмеяться надо мной, смейся во все горло, прошу тебя. Разрешаю. Однако что еще я могу тебе разрешать или запрещать, если, как видишь, я почти завишу от тебя? Мне страшно, меня обуревает гнев, и я счастлив оттого, что так случилось. Ведь я впервые встретил человека, который мне люб. Ты не можешь понять этого. Ступай. Марш. Ступай быстрее. Знай, что я могу еще покарать. Бойся!» Ну вот он и взбесился. Я поторопился скрыться от его сверлящих глаз. Вот уж глаза так глаза! Им я поверил больше, чем слову «Бойся!», и пулей вылетел из канцелярии, нет, быстрее пули. Да, страх перед ним иной раз оправдан. Я бы стыдился не иметь в душе страха, ибо это означало бы, что у меня нет и мужества, потому что мужество — это и есть преодоление страха. И опять в коридоре я приложил ухо к замочной скважине, и опять в комнате было тихо. Как истый воспитанник, я не забыл высунуть и язык в сторону двери, а потом рассмеяться. Никогда в жизни, пожалуй, так не смеялся. Разумеется, тихо. То был самый сильный и самый сдавленный смех. Когда я так смеюсь, то не чувствую над собой никакой власти. Тогда никто не может сравняться со мной во всемогуществе. Я просто велик в такие моменты.
Да, я все еще в пансионе Беньяменты, все еще подчиняюсь принятым здесь правилам, все еще хожу на уроки, где задают вопросы и отвечают на них, все мы еще вскакиваем по команде, а Краус по утрам колотит в дверь и кричит: «Вставай, Якоб!» — все еще мы, воспитанники, говорим: «Доброе утро, фройляйн!» — когда она входит, и «Спокойной ночи!» — при прощании вечером. Мы все еще барахтаемся в немилосердных когтях многочисленных предписаний и без конца повторяем одни и те же поучения. Я меж тем побывал в настоящих внутренних покоях и должен сказать, что таковых не имеется вовсе. Есть две комнаты, но они совсем не выглядят как покои. Они меблированы как сама рачительность и рутина, и в них нет ничего таинственного. Странно! Как это могло прийти мне в голову, что Беньямента живут в покоях? Или я видел сон, а теперь проснулся? Однако в покоях имеются все же золотые рыбки, которым мы с Краусом должны менять воду и чистить аквариум. Но разве это похоже хоть чем-нибудь на волшебство? Золотых рыбок может позволить себе любое семейство среднего прусского чиновника, то есть круг людей самых заурядных и пошлых на свете. Чудеса какие-то! А я так верил в эти внутренние покои. Я думал, что за той дверью, через которую входит и выходит фройляйн, имеется целая анфилада комнат, как в замке. За простенькой дверью я угадывал причудливо изогнутые винтовые лестницы и лестницы другие — широкие, каменные, покрытые коврами. Воображение рисовало мне древнее книгохранилище и длинные, светлые, устланные циновками коридоры из одного конца здания в другой. Глупая голова моя способна основать акционерное общество для распространения прекрасных и неосновательных фантазий. Капитала, на мой взгляд, достаточно, фондов тоже хватает, а держатели таких бумаг есть всюду, где не умерла еще вера в прекрасное. Чего только я бы не приобрел! Сад, конечно, прежде всего. Без сада я не мыслю существования. В саду часовня, но, как ни странно, не развалина в романтическом вкусе, а тщательно отреставрированная, маленькая протестантская молельня. За завтраком сидит пастор. И все такое прочее. Обеды, охота. По вечерам танцы в рыцарском зале, на высоких, темного дерева стенах которого висят портреты предков. Каких предков? Виноват, этого я не могу открыть. И уже раскаиваюсь в том, что опять предался поэтическим фантазиям. Снег пригрезился мне, хлопья снега во дворе замка. Крупные, мокрые хлопья, дело было зимой, в холодных сумерках, на рассвете. И потом я увидел нечто прекрасное, какой-то зал, да, роскошный зал. Три почтенные знатные старухи сидели у потрескивавшего, хихикающего камина. Они вязали. Что за убогая фантазия — и в грезах видеть лишь то, как плетут да вяжут. Но именно это мне показалось волшебным. Будь у меня враги, они бы сказали, что я ненормален, и они были бы правы, меня стоило бы презирать за привязанность к милым, домашним крючкам. Потом была чудесная вечерняя трапеза с зажженными свечами в серебряных канделябрах. За столом в ослепительном блеске непринужденно болтали. Воображение мое работало четко и щедро. А женщины, какие женщины! Одна из них выглядела как настоящая принцесса — и была ею. Рядом с ней сидел англичанин. Как колышутся и трепещут женские платья, как вздымаются и опускаются груди! Вся столовая благоухает изысканными духами. Великолепие соединилось здесь со сдержанной учтивостью, хороший тон с наслаждением, радость с деликатностью, как это присуще родовитой знати. Потом видение исчезло и появилось новое, другое. Да, внутренние покои были полны жизни, а теперь их у меня как будто украли. Суровая действительность — каким она все же бывает разбойником. Ворует вещи, с которыми ей нечего делать. Просто ей в радость поозоровать, причинить людям горе. Горе, впрочем, мне любо, очень, очень любо. Оно учит.