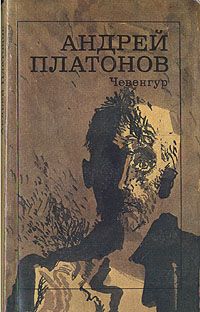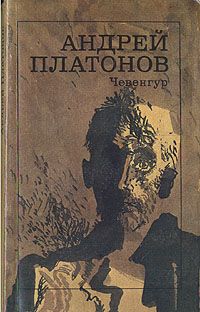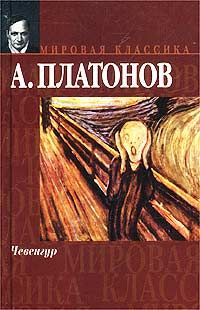– Вон наша база горит и не сгорает.
– Где ваша база? – посмотрел Дванов на него.
– Вонна. Мы людей не мучаем, мы от лишней силы солнца живем.
– Почему – лишней?
– А потому, что если б она была не лишняя, солнце бы ее вниз не спускало – и стало черным. А раз лишняя – давай ее нам, а мы между собой жизнью займемся! Понял ты меня?
– Я хочу сам увидеть, – сказал Дванов; он шел усталый и доверчивый, он хотел видеть Чевенгур не для того, чтобы его проверить, а для того, чтобы лучше почувствовать его сбывшееся местное братство.
Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух, как скошенная нива, – и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит и труп его не был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не приглядывались – это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по делам своих забот. Дойдя с Гопнером до Чевенгура, Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях – опасности и бедствия: революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрылась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же, свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутево, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер – быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов, и сын его снова переживал вечер. Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шел вперед со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, – так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму – отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный – как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибнут от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих.
Дванов вспомнил старого, еле живущего Захара Павловича. «Саша, – говорил, бывало, он, – сделай что-нибудь на свете, видишь – люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть».
И Дванов решил дойти до Чевенгура, чтобы узнать в нем коммунизм и возвратиться к Захару Павловичу для помощи ему и другим еле живущим. Но коммунизма в Чевенгуре не было наружи, он, наверное, скрылся в людях, – Дванов нигде его не видел, – в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. «Кончается моя молодость, – думал Дванов, – во мне тихо, и во всей истории проходит вечер». В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела.
– История грустна, потому что она время и знает, что ее забудут, – сказал Дванов Чепурному.
– Это верно, – удивился Чепурный. – Как я сам не заметил! Поэтому вечером и птицы не поют – одни сверчки: какая ж у них песня! Вот у нас тоже – постоянно сверчки поют, а птиц мало, – это у нас история кончилась! Скажи пожалуйста – мы примет не знали!
Копенкин настиг Дванова сзади; он загляделся на Сашу с жадностью своей дружбы к нему и забыл слезть с коня. Пролетарская Сила первая заржала на Дванова, тогда и Копенкин сошел на землю. Дванов стоял с угрюмым лицом – он стыдился своего излишнего чувства к Копенкину и боялся его выразить и ошибиться.
Копенкин тоже имел совесть для тайных отношений между товарищами, но его ободрил ржущий повеселевший конь.
– Саша, – сказал Копенкин. – Ты пришел теперь?.. Давай я тебя немного поцелую, чтоб поскорей не мучиться.
Поцеловавшись с Двановым, Копенкин обернулся к лошади и стал тихо разговаривать с ней. Пролетарская Сила смотрела на Копенкина хитро и недоверчиво, она знала, что он говорит с ней не вовремя, и не верила ему.
– Не гляди на меня, ты видишь, я растрогался! – тихо беседовал Копенкин. Но лошадь не сводила своего серьезного взора с Копенкина и молчала. – Ты лошадь, а дура, – сказал ей Копенкин. – Ты пить хочешь, чего ж ты молчишь?
Лошадь вздохнула. «Теперь я пропал, – подумал Копенкин. – Эта гадина и то вздохнула от меня!»
– Саша, – обратился Копенкин, – сколько уж годов прошло, как скончалась товарищ Люксембург? Я сейчас стою и вспоминаю о ней – давно она была жива.
– Давно, – тихо произнес Дванов.
Копенкин еле расслышал его голос и испуганно обернулся. Дванов молча плакал, не касаясь лица руками, а слезы его изредка капали на землю, – отвернуться ему от Чепурного и Копенкина было некуда.
– Ведь это лошадь можно простить, – упрекнул Чепурного Копенкин. – А ты человек – и уйти не можешь!
Копенкин обидел Чепурного напрасно: Чепурный все время стоял виноватым человеком и хотел догадаться – чем помочь этим двум людям. «Неужели коммунизма им мало, что они в нем горюют?» – опечаленно соображал Чепурный.
– Ты так и будешь стоять? – спросил Копенкин. – Я у тебя нынче ревком отобрал, а ты меня наблюдаешь!
– Бери его, – с уважением ответил Чепурный. – Я его сам хотел закрыть – при таких людях на что нам власть!
Федор Федорович Гопнер выспался, обошел весь Чевенгур и благодаря отсутствию улиц заблудился в уездном городе. Адреса предревкома Чепурного никто из населения не знал, зато знали, где он сейчас находится, – и Гопнера довели до Чепурного и Дванова.
– Саша, – сказал Гопнер, – здесь я никакого ремесла не вижу, рабочему человеку нет смысла тут жить.
Чепурный сначала огорчился и находился в недоумении, но потом вспомнил, чем должны люди жить в Чевенгуре, и постарался успокоить Гопнера:
– Тут, товарищ Гопнер, у всех одна профессия – душа, а вместо ремесла мы назначили жизнь. Как скажешь, ничего так будет?
– Не то что ничего, а прямо гадко, – сразу ответил Копенкин.
– Ничего-то ничего, – сказал Гопнер. – Только чем тогда люди друг около друга держатся – неизвестно. Что ты, их слюнями склеиваешь иль одной диктатурой слепил?
Чепурный, как честный человек, уже начал сомневаться в полноте коммунизма Чевенгура, хотя должен быть прав, потому что он делал все по своему уму и согласно коллективного чувства чевенгурцев.
– Не трожь глупого человека, – сказал Гопнеру Копенкин. – Он здесь славу вместо добра организовал. Тут ребенок от его общих условий скончался.
– Кто ж у тебя рабочий класс? – спросил Гопнер.
– Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, – тихим голосом сообщил Чепурный. – Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится.
– Так ты думаешь – у тебя коммунизм завелся? – снова спросил Гопнер.
– Кроме его ничего нет, товарищ Гопнер, – грустно разъяснил Чепурный, усиленно думая, как бы не ошибиться.
– Пока не чую, – сказал Гопнер.
Дванов смотрел на Чепурного с таким сочувствием, что ощущал боль в своем теле во время грустных, напрягающихся ответов Чепурного. «Ему трудно и неизвестно, – видел Дванов, – но он идет куда нужно и как умеет».
– Мы же не знаем коммунизма, – произнес Дванов, – поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не надо нам пытать товарища Чепурного, мы ничего не знаем лучше его.
Народ гречишной каши себе сварить не может, крупы нигде нету... А я кузнецом был – хочу кузницу подальше на шлях перенесть, буду работать на проезжих, может, на крупу заработаю.
– Поглуше в степь – гречиха сама растет, рви и кушай, – посоветовал Чепурный.
– Покуда дойдешь да покуда нарвешь, есть еще больше захочешь, – сомневался Яков Титыч, – способней будет вещь по кузнечному сработать.
– Пускай кузницу тащит, не отвлекай от дела человека, – сказал Гопнер, и Яков Титыч пошел меж домов в кузницу.
В горне кузницы давно уже вырос лопух, а под лопухом лежало куриное яйцо, наверное, последняя курица спряталась от Кирея сюда, чтобы снестись, а последний петух где-нибудь умер в темноте сарая от мужской тоски.